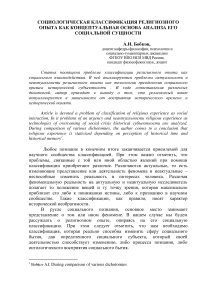Социологическая классификация религиозного опыта как концептуальная основа анализа его социальной сущности
Автор: Бобков А.И.
Журнал: Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России @vestnik-vsi-mvd
Рубрика: Социально-гуманитарные проблемы деятельности ОВД и ГПС
Статья в выпуске: 3 (58), 2011 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме классификации религиозного опыта как социального взаимодействия. В ней анализируются проблемы актуальности и неактуальности религиозного опыта как технологии преодоления социального кризиса исторической субъектности. В ходе сопоставления различных дихотомий, автор приходит к выводу о том, что религиозный опыт актуализируется в зависимости от восприятия исторического времени и исторической памяти.
Короткий адрес: https://sciup.org/14335491
IDR: 14335491
Текст научной статьи Социологическая классификация религиозного опыта как концептуальная основа анализа его социальной сущности
Статья посвящена проблеме классификации религиозного опыта как социального взаимодействия. В ней анализируются проблемы актуальности и неактуальности религиозного опыта как технологии преодоления социального кризиса исторической субъектности . В ходе сопоставления различных дихотомий, автор приходит к выводу о том, что религиозный опыт актуализируется в зависимости от восприятия исторического времени и исторической памяти.
Article is devoted a problem of classification of religious experience as social interaction. In it problems of an urgency and неактуальности religious experience as technologies of overcoming of social crisis historical субъектности are analyzed. During comparison of various dichotomies, the author comes to a conclusion that religious experience is staticized depending on perception of historical time and historical memory1.
Любое познание в конечном итоге заканчивается приемлемой для научного сообщества классификацией. При этом важно отметить, что проблемы, связанные с той или иной областью явлений при помощи классификации приобретают различие. Различаются актуальные, то есть изменяющие представление или деятельность феномена и неактуальные – неспособные изменить реальность в интересах человека. Различая феноменальную реальность на актуальную и неактуальную исследователь полагает то положение вещей и ту точку зрения, которая максимально приблизит его либо к пониманию истины, либо к признанию в научном сообществе. Такие классификации, как правило, носят характер исторической необратимости.
В русле социального познания, основное место занимают представление о том или ином феномене. В нашем случае мы будем рассуждать о религиозном опыте, опираясь на его социальную классификацию. При этом следует отметить, что нам необходимо классификация, которая реально способна изменить сферу социального бытия, дав определенного социального субъекта, который своей деятельностью способствует изменению, либо процесса познания, либо онтологического восприятия социального бытия.
Уже сейчас можно говорить о двух видах социальной классификации религиозного опыта: онтологической и гносеологической. Их различие состоит в том, что одна выявляет типы религиозного опыта как результат познания, а вторая как результат существования.
Онтологическая классификация начинается с установления того, что не является религиозным опытом. Для того, чтобы установить это несоответствие нам необходимо выявить идеальную модель религиозного опыта и наложить ее на реальный человеческий опыт с точки зрения социальной онтологии или социального бытия.
Отметим, что социальное бытие – это совокупность наблюдаемых феноменов человеческого взаимодействия. К таким феноменам человеческого общежития, по мнению П.А.Сорокина относятся: а) длительное и временное; б) антагонистическое и солидаристкое; в) шаблонное и нешаблонное; г) сознательное и бессознательное [1,207-223]. В данном случае можно подразделить религиозный опыт на длительный и временный. Если начать с этого разделения, то можно сказать о том, что религиозный опыт может означать, либо как длительное взаимодействие со священным или временное взаимодействие. С одной точки зрения религиозный опыт постоянен, а с другой стороны он временен. Таким образом, существует точка зрения на религиозный опыт, как кратковременное, изменчивое взаимодействие со святыми, которое носит изменчивый, исторически детерминируемый характер. Данный опыт можно назвать опытом «конца истории».Этот опыт по своему характеру приговаривает общество к концу и исчезновению, его историческая перспектива ограничивается деградировавшей социальной реальностью, констатирующей факт исчезновения святости.
Святость в данном случае заключается в способности к преобразованию социальной реальности из деградирующей в прогрессирующую. Прогрессирующая социальная реальность в данном случае демонстрирует способность недосягаемости цели, которая в силу констатации, постоянного несовершенства человеческого социума. Но эта констатация заключается не в том, чтобы осудить общество и не принять его. Кратковременная характеристика взаимодействия со священным констатирует социальную беспомощность религиозного опыта, его отсутствие в социальной деятельности.
Иное дело, если религиозный опыт воспринимать как долговременное взаимодействие со священным. Констатируя факт постоянного присутствия священного в любую историческую эпоху, мы в состоянии выявить, что подлинный религиозный опыт, есть по своей сути постоянное констатирование факта социальной деградации, но не с целью его непринятия, а с целью ее коррекции. Историческое здесь есть спасение деградирующей социальной реальности с целью сохранения нормального социального порядка.
В данном случае нормальный социальный порядок следует понимать как состояние схваченности, очевидности священного. Иначе говоря, это актуализация первобытного общества, как творца реального исторического субъекта.
Первобытное состояние религиозного опыта - это осознание вечной угрозы социальной норме. Это осознание тщетного упования на то, что состояние общества как оно есть и общества как оно должно быть совпадают, что приближение к их совпадению и есть социально-губительная ошибка. Осознание несовершенства социальной реальности и религиозный опыт тождественны в силу исторического масштаба заданного на основании на религиозного опыта. При этом важно отметить, что взаимодействие со священным на постоянной основе приводит к тому, что социальные законы не являются суть кратковременными, они долговременные, поэтому их нарушение должно фиксироваться не на уровне факта, а на уровне абстрактной идеи. Если факт отсутствует, то это может быть с одной стороны констатацией факта беспочвенности идеи, ее императивов, но это может быть и констатацией невозможности наблюдения факта в силу неправильной объективации социальной реальности.
Длительное взаимодействие со священным предлагает иное измерение исторического процесса. Это измерение можно назвать измерением самоубийства и возрождения исторического субъекта. В случае нашего исследования, необходимо говорить о том, что дезактуализация священного (секуляризация возможно не тот термин, который необходим для обозначения смысла самого процесса) есть по своей сути факт самоубийства исторического субъекта.
Обозначение этого акта, его понимание, его объективация утверждает, что произошли необратимые исторические изменения, что социум есть такой какой есть, иного не дано. Это вполне способствует тому, что религиозный опыт из необходимого взаимодействия, из основы социального бытия, превращается не более чем в признак социального невосприятия и аутсайдерства. Его представители уже не воспринимаются как носители необходимого социального опыта.
Иначе говоря, религиозный опыт входит в кратковременное измерение, лишенное волевого наполнения и способного восприниматься как эмоциональное взаимодействие. Театр реконструкции уже ушедшего с исторической сцены социального субъекта, который позволяет относиться к истории как к экзотике.
Переключаемость внимания социума к религиозному опыту с точки зрения его как социальной необходимости на точку зрения на него, как «ретро-экзотики» или исторического плеоназма , есть вполне реальное дезертирство с исторического фронта. Это дезертирство не в состоянии привести к пониманию того, что любой социальный кризис является результатом игнорирования сакральных императивов (в нашем понимании закономерностей социального бытия). Оно скорее всего приводит к состоянию того, что социальные закономерности таятся в области профанного, а не трансцендентного.
Социум счастлив сейчас, а не счастлив в будущем. Так сакрализация социума перемещается из изобилия смыслов в изобилие вещей. Волевые усилия признаются социальными тогда, когда они ведут не к открытию идеи, а к обладанию вещами.
Следует заметить, что обладание вещами с точки зрения длительности священного всегда незначительно. Перспективы субъекта, сделавшего шаг в сторону вещного изобилия в истории всегда вполне прозрачны, то есть сам просто напросто отсутствуют. Священное дающее вещи и власть при помощи вещей, есть профанное, ибо власть сакрального всегда состоит в том, чтобы превратить в знаки.
Данный вывод можно подтвердить, если проанализировать высказывание Жана Бодрийара о соотношении обмена в современных обществах. Ссылаясь антропологическую идею сокрушения идеологии рынка, он отметил, что антропология «указан путь преодоления кризиса обществам и культурам, в которых стоимости в нашем понимании не существует, ибо вещи обмениваются не напрямую, а исключительно посредством трансцендентного, посредством абстракции»[2,14-15]. Абстракция в данном случае является методологией угнетения или уничтожения ценности вещи в вечном измерении. Вещи не обладают или не являются более признаком освобождения или духовного совершенства, они считаются просто ресурсом для торжества сакрального, как траты доселе хранимых вещей. Религиозный опыт отказывает вещам в том, что ценность, определяемая рынком представляет и социальную ценность субъектов ими обладающих.
Религиозный опыт своей долговечностью провозглашает краткосрочность процесса десакрализации, как первоосновы рыночной идеологии. Рыночная идеология в том и состоит, что уровень потребления является признаком наличия истории. Иными словами, любое отречение от вещи во имя идеи, что по сути является религиозным опытом преследуется рынком в силу того, что он перестает существовать.
Освобождение от краткосрочности, обрезкового измерения в истории, от понимания необратимости социальных изменений, есть по сути основанная сущностная черта социального религиозного опыта. Заметим, что религиозный опыт не индивидуален, а социален. Иного измерения религиозного опыта просто невозможно представить, ибо индивидуальное измерение религиозного опыта, как основанная составляющая сегодняшнего социально философского понимания есть мифологема все той же рыночной идеологии.
Наличие рыночной идеологии, как основного начала в восприятии религиозного опыта можно доказать при помощи анализа второго типа социального взаимодействия П.А.Сорокина: антологического и солидаристкого. Антагонистическое социальное взаимодействие является по своей сути взаимодействием, возникающим на основании различного социального статуса определенного вида деятельности.
Парадокс состоит в том, что определенный вид деятельности может выступить как в качестве порождающего антагонистическое взаимодействие, так и в качестве солидаризирующего. Например, производство вещей, может носить солидаризирующий характер тогда, когда оно решает не столько задачу потребления, сколько задачу духовного самосовершенствования работника репрезентируемого в произведенной им вещи. Однако, оно может носить и антагонистический характер, если эта вещь направлена на подчеркивание господствующего положения определенной социальной группы. Сталкиваясь с этим господством, с его неприкрытым ограничением человеческой деятельности антагонистическое взаимодействие не появиться.
В связи с этим, религиозный опыт может трактоваться либо как солидаризирующим, либо как антагонизирующий. Солидаризирующий религиозный опыт отличает то, что он постоянно отыскивает жертву, ведущую к антагонизму. Его жертвой всегда остается роскошь. Роскошь приносится в жертву, в силу того, что именно она приводит к антагонизму, если обладание его провозглашается результатом социальной значимости деятельности ее обладателя. Роскошь начинает ограничивать социальную реальность тем, что рынок как основной роскошобразующий институт играет с человеком таким образом, что делит сообщество на избранных и отвергнутых. Сталкиваясь с тем, что роскошь недоступна тому, кто играет по официальным правилам рынка, многие из субъектов пытаются заменить ее на некоторые суррогаты. В итоге эта суррогатная роскошь заставляет ее обладателей смиряться с тем, что они действительно не могут быть признаны. Их непризнанность в один прекрасный момент становится признаком конформизма и отталкивает их от практики социотворения. Смирение с несправедливой социальной структурой кажется основанием для того, чтобы понять, что религиозный опыт не является весьма эффективным средством для снятия социального антагонизма. Однако, обвинении критиков религиозного опыта часто строится именно на том, что он воспитывает социальный конформизм.
Это происходит из-за того, что солидарность зачастую ставится в зависимость от того, что социальные субъекты в предметах роскоши видят сакральные ценности. Однако, роскошь бывает двух видов: одна действительно сакральной ибо обозначает эмоциональное чувство величия предыдущих поколения и вторая, стремящаяся подчеркнуть силу социальных верхов и незыблемость социальной иерархии.
Безнадежность социального антагонизма кажется наиболее необходимым условием для того, чтобы достигнуть социальной гармонии. Поэтому, роскошь часто освящают именно за тем, что понимают ее смысл, как основы для разжигания социальной розни. Религиозный опыт же в отличие от экономического говорит о том, что высшая интеграция социума достигается именно тогда, когда роскошь приносится в жертву, но не вандалистами, а в качестве репрезентационным символам социального превосходства. Только роскошь постоянно приносимая в жертву останавливает иметь одних и других.
Уникальность религиозного опыта в том и состоит, что он возобновляет социальные отношения максимальной сплоченности в тот момент, когда все социальные институты еще даны в их непосредственном функциональном качестве.
Данное функциональное качество заключается в том, что роскошь принадлежит всем и никому. И социальная ответственность превышает социальные привилегии. Ответственности за признание состояния общества, которое роскошь в религиозном опыте не бывает. Религиозный опыт стремится к тому, чтобы между антагонистическими группировками носили продуктивный характер. Этот продуктивный характер заключается в том факте, что роскошь как знак избежания кризисного социального бытия приносится в жертву и не учитывается в условиях диалога. Диалог в религиозном опыте ведется человеком с человеком. Разница между ними заключается в том, что они по-разному понимают степень своей ответственности за кризисное состояние. Ликвидация этой разницы и состоит в том, чтобы разобраться какие антагонизмы необходимы, а какие вредны и какая солидарность перспективна с исторической точки зрения, а какая вредна.
Если смотреть на религиозный опыт с позиции необходимого и шаблонного социального взаимодействия, то к шаблонному взаимодействию следует отнести остывший религиозный опыт, когда воздействие священного уже не столь потрясающе. Социальная реальность уже рождена и утверждена, она прогнозируема и предсказуема. Шаблонное взаимодействие со священным не нарушает статусного распределения внутри общности. Священное шаблонного характера уже остановило наличие, оно уже не учреждает, хотя еще сохраняется различие.
Однако, это различие вполне образцово, оно даже не вызывает сомнения. Здесь идет предписывание социального успеха одним статусам и навязывание социального кризиса другим, оставшиеся верным традиции социальным субъектам.
Шаблонный религиозный опыт предполагает совершенно иное распределение социальной ответственности. Здесь верные традиции чаще всего провозглашаются носителями социальной нормы, социального интеллекта, а все те, кто отстал от традиции, являются создателями социальной патологии. Недаром еще у Э было отмечено: «Сердце глупца находится в доме, где смеются, а сердце мудреца в доме, где плачут». Возможности социума религиозный опыт шаблонного характера оценивает в пространстве социального бедствия, он его останавливает путем принесения в жертву того самого неприкосновенного, которое провозглашалось спасением социальной нормы, ее гарантом.
Как выглядит этот механизм с точки зрения социальной философии? Этот механизм заключается в том, что в первую очередь уничтожается иерархическое различие с точки зрения степени человечности. Человечным начинает признаваться все то, что до этого не считалось таковым.
Наибольший религиозный опыт - это осмысление человеческого тем, где до этого наблюдалось его отсутствие. Социальные стереотипы, как продукт репродукции состояния «уснувшей» совести, являются неприемлемыми и стратегия успеха построения на них признается беспочвенной.
Угроза человеческому вполне возможно таится в «слишком человеческом». Его воля в контексте «слишком человеческого» заключается лишь в индивидуальной ответственности перед силой, способной принести его в жертву. Задача состоит в том, чтобы приносить в жертву других и самому не стать жертвой никогда. Нешаблонный религиозный опыт разыгрывает драму принесения в жертву (иногда реальную, иногда символическую) тех, кто казался неуязвимым доселе. Он привлекает их к той несправедливости, которую до этого чинили они и не замечали ее последствий .
Можно сказать, что «слишком человеческое» - это состояние отсутствия возможности социальной справедливости. Вся рефлексия по поводу социальной справедливости сводится к той точки зрения, что она недостижима. Жертвы всегда будут не теми и не там, где надо. Объективируются же закономерности, которые делают неприкосновенными иерархию.
Шаблонное взаимодействие со священным есть демонстрация социального характера любой иерархии тогда, когда казалось бы вопрос о ее справедливости снят окончательно. Вина низов доказана и обжалованию не подлежит. Низ-это жертва. Он стал жертвой за неспособность предложения продуманного социального порядка. Из истории те, кто не захотел признать порядка иехаразматичные группы и их ценности.
Следующим типом религиозного опыта следует признавать: сознательный и бессознательный религиозный опыт. Здесь таится серьезная методологическая задача. Суть этой задачи заключается в следующем: такой религиозный опыт более эффективно воздействует на социальную реальность? Дело в том, что теория бессознательности К. -Т.Юнга покоится на том, что инфляция конкретного индивида преодолевается лишь религиозным экстазом коллектива. Коллективное бессознательной, тогда оно находит свое воплощение в конкретных социальных устранениях, становится весьма сознательной силой, а осознание могущества коллективной общности (чаще всего этнической А.Б.) ведет к тому, что это состояние стремится повторить, закрепить, сделать неприкосновенным. Иначе говоря, священное состояние коллективной общности является искомым бессознательного взаимодействия со священным. Точнее взаимодействие между социальными субъектами и есть религиозный опыт.
Священный коллектив - это сознательное взаимодействие, направленное на принесение в жертву определенных ценностей, вносящих разобщение. Это, чаще всего, не материальные ценности, а символы, то есть их институционализирующее значение. В жертву приносится до этого независимая незыблемость устойчивого взаимодействия, ее продуманность.
Иначе говоря, субъекту предлагается историческая классификация такого типа, где его положение изначально привилегированное и эти привилегия неотчуждаенемы.
Бессознательно человек стремится к тому религиозному опыту, где он осознает себя знающим закономерности истории социума. Это и есть то, что можно назвать архетипом или социлосозидающии экстазом.
Список литературы Социологическая классификация религиозного опыта как концептуальная основа анализа его социальной сущности
- Сорокин П.А. Система социологии/П.А.Сорокин.-М.:Астрель,2008.-1008с.
- БодрийарЖ. Пароли. От фрагмента к фрагменту./Жан Бодрийар. Пер.с французского Н. Суслова. -Екатеринбург:У-Фактория,2006.-200с.