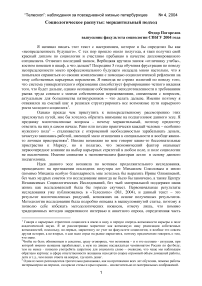Социологическое распутье: меркантильный подход
Автор: Погорелов Федор
Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop
Статья в выпуске: 4, 2004 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142181574
IDR: 142181574
Текст статьи Социологическое распутье: меркантильный подход
Я начинал писать этот текст с настроением, которое я бы определил бы как «неопределенность будущего». С тех пор прошло около полугода, я таки получил свой красный диплом по социологии и счастливо пребываю в качестве дипломированного специалиста. Отзвенел последний звонок, Вербицкая вручила значок «отличнику учебы», костюм повешен в шкаф, а что дальше? Посредине 5 года обучения фрустрация по поводу неопределенности моего профессионального будущего овладела мною настолько, что я попытался справиться со своими комплексами с помощью социологической рефлексии на тему собственных карьерных перспектив. Я никогда не строил иллюзий по поводу того, что система университетского образования способствует формированию четкого видения того, что будет дальше, однако осознание собственной неподготовленности к требованиям рынка труда совпало с моими собственными переживаниями, связанными с вопросом, актуальным для большинства пятикурсников – что делать дальше. Именно поэтому я отважился на смелый шаг и решился структурировать все возможные пути карьерного роста молодого социолога 1.
Однако прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению этих пресловутых путей, мне бы хотелось обратить внимание на подзаголовок данного эссе. Я предвижу многочисленные вопросы - почему меркантильный, поэтому предпочту ответить на них в самом начале. Рано или поздно практически каждый человек – особенно мужского пол а2 – сталкивается с откровенной необходимостью зарабатывать деньги, зачастую занимаясь работой, имеющей мало отношения к специальности и вообще каким-то личным пристрастиям 3. Вполне возможно во мне говорят какие-то бессознательные пристрастия к Марксу, но я полагаю, что экономический фактор оказывает первоочередное влияние на выбор карьерных стратегий в любом поле, и поле социологии не исключение. Именно симпатии к экономическим факторам легли в основу данного подзаголовка.
Идея данного эссе возникла по мотивам продолжительного исследования, проводимого на протяжении последних полутора лет Михаилом Соколовым и мною (помимо Михаила особую благодарность мне хотелось бы выразить Ирине Олимпиевой, без чьих мудрых советов это исследование никогда не было бы закончено, а также Центру Независимых Социологических Исследований, без чьей материальной поддержки наша жизнь как исследователей была бы гораздо скучнее). Первоначальные результаты исследования уже публиковались в «Телескопе» (№1, 2004), и данный текст – это результат многочисленных раздумий, возникших на основе полученных результатов. Методология исследования была подробно описана в вышеупомянутой статье, поэтому я позволю себе избежать методологических нюансов, отмечу лишь, что помимо традиционных методов нарративного интервью и анкетного опроса, определенная часть
“Телескоп”: наблюдения за повседневной жизнью петербуржцев No 4, 2004 данных были получены в ходе пятилетнего участвующего наблюдения, которое последовательно осуществлял автор, будучи по «долгу службы» включенным в поле социологии, а также с помощью метода автоэтнографии, подробно описанного, например, Норманом Денцин в своей работе, посвященной биографическому методу в социальных науках 4 .
В качестве теоретических оснований используется вульгарное понимание концепции поля Пьера Бурдье – первоочередное место в анализе будут занимать такие категории, как капитал, необходимый для вертикальной мобильности в определенной организации, и ресурсы, доступ к которым открывается в результате успешной карьеры. Также у Бурдье я позаимствуем понятие рынка символической продукции: используя понятие рынка символической продукции проводится деление поля петербургской социологии на два рынка, которые представлены различными сегментами: это исследовательский и образовательный рынки, которые представлены внутренним и внешним сегментами. Соответственно, в этой работе будет рассмотрена возможность продолжения профессиональной карьеры в основных социологических организациях Петербурга, с которыми в том или ином виде я контактировал в течение последних пяти лет, существующими на разных рынках социологической продукции.
Внутренний сегмент образовательного рынка.
Самый очевидный путь - это аспирантура факультета. Различия в форме аспирантуры мало влияют на суть дела – разница между заочной и очной аспирантурами бесконечно стремятся к нулю, последнее существенное различие исчезло год назад с отменой льготного проездного для аспирантов. Последний водораздел между различными формами - стипендия приблизительно в 1000 рублей.
Однако выбирая аспирантуру факультета необходимо иметь в виду одно важное обстоятельство. Дело в том, что карьера на факультете социологии возможна лишь в случае включенности научного руководителя в жизнь местного академического сообщества, дележку ресурсов и проч., иными словами – при наличии у научного руководителя определенного социального и символического капитала. Все это не единожды описано в литературе по социологии науки: классический пример – парадигмальная работа Мертона «Эффект Матвея» 5, главная мысль которой сводится к тому, что признание и соответствующие бонусы в поле науки получают ученики признанных ранее ученых 6 . Другой пример – исследование нобелевский лауреатов Гарриет Цуккерман 7 . Один из основных выводов этого исследования сводился к утверждению, что большинство нобелевских лауреатов – ученики и последователи других нобелевских лауреатов, что лишь подтверждает мысль Мертона.
Соответственно, выбирая научного руководителя в аспирантуру необходимо понимать, что аутсайдеры, маргиналы и иже с ними 8 вряд ли будут способствовать стремительному продвижению по пути от ассистента к доценту. Этот же фактор определяет сроки написания кандидатской диссертации и легкость ее защиты. Социальный капитал научного руководителя непосредственным образом влияет на получение каких-то заказов на исследования со стороны.
Важность научного руководителя обусловлена не только тем, что научный руководитель – первоочередной источник личностного знания по Полани и вообще ключевое звено в системе «учитель-ученик», но и тем, что социальный и символический капитал научного руководителя – единственное преимущество в сложной конкурентной борьбе на пути академической карьеры. Единственное – потому что собственно академические навыки для такой карьеры практически не важны. Действительно, чему учат на протяжении пяти лет на факультете социологии? Правильный ответ – сдавать сессию 9 . Ценность этого навыка начинает бесконечно стремиться к нулю сразу же после сдачи государственного экзамена. Навыки академического письма, собственно исследовательские практики лежат за пределами тех компетенций, которые циркулируют на факультете. Приобретение собственного социального капитала также представляется весьма затруднительным, поскольку до недавнего времени факультет находился в некоторой оппозиции городскому социологическому пространству, и каких-то интегративных мероприятий, помимо ознакомительной практики на 2-м курсе, лично я не припомню.
Соответственно, идеальная карьера на факультете социологии выглядит следующим образом: патронаж научного руководителя в студенческие годы, возможно, минимальные публикации, поступление в аспирантуру и одновременное трудоустройство на кафедру ассистентом, написание кандидатской диссертации параллельно с поступательным движением от ассистента до доцента, докторская, профессорство. Каких-то специальных умений и знаний – в том числе и иностранных языков – этот путь не требует. На кону – преподавательские оклады, профессорские ставки, гранты РГНФ и РФФИ, поездки за рубеж. Есть прецеденты, когда этот путь был пройден за 8 лет.
Внутренний сегмент исследовательского рынка.
Этот рынок представлен в первую очередь Институтом Социологии РАН. Аспирантура ИСАНа, по замечаниям очевидцев, это практически рай на земле. Атмосфера трогательного ничегонеделанья – ключевая характеристика, которое все мои информанты предлагали для описания этого академического заведения. Соответственно, затраты, необходимые для того, чтобы поступить в аспирантуру ИСАНа, невелики, другое дело, какие ресурсы можно получить взамен.
Ученого совета в настоящий момент в ИСАНе нет, а это значит, что защищать кандидатскую диссертацию, даже если она и будет написана, придется в другом месте – например, на факультете социологии 10 . Собственно исследовательские перспективы в стенах ИСАНа чрезвычайно туманны – институциональных связей с зарубежными организациями, подобно тем, что существуют на факультете социологии, в ИСАНе нет, что замыкает его сотрудников на сотрудничество с российскими научными фондами, которые, как известно, имеют весьма конкретные пределы.
Иностранные языки и включенность в зарубежные интеллектуальные сети, символический капитал за пределами тесного ИСАНовского комьюнити, толстые монографии – аспирант ИСАНа может долго рисовать в своем воображении эти притягательные картины. Но только в воображении. На деле молодой аспирант в первую очередь будет решать сложный вопрос – как остаться в живых, имея доходов в месяц 1000 рублей стипендии и какую-нибудь ставку, поражающую своей величиной (1000-3000).
Туманность карьерных перспектив к тому же усугубляется организационным кризисом, который раздирает ИСАН на протяжении последних лет и который уже находил отражение на страницах «Телескопа». Понятно, что при таком раскладе у факультета социологии есть один серьезный козырь – стабильность.
К слову, внутренний сегмент исследовательского рынка представлен в Петербурге еще одной академической организацией - НИИ комплексных социальных исследований. Но тут, говорить, в общем-то, нечего: дверь в отдел кадров затянута паутиной, сотрудников моложе 30 нет в принципе, публикации, исследования, гранты – все это осталось в славном прошлом, которого, конечно же, нельзя отрицать: множество чрезвычайно достойных людей в свое время вышло из стен НИИКСИ. Другое дело, что сегодня ждать их оттуда бессмысленно. И меня всегда мучил вопрос: на что живут сотрудники НИИКСИ? Не могут же они, подобно ленивцам, питаться воздухом.
Внешний сегмент образовательного рынка.
Внешний сегмент образовательного рынка представлен в Петербурге в первую очередь Европейским Университетом, организацией достойной во всех отношениях. Но для того, чтобы делать академическую карьеру на внешнем образовательном рынке требуются совсем другие компетенции, навыки, умения. Отличия эти столь существенны, что первый год, посвященный получению степени МА, в основном тратится на адаптацию к новым формам обучения, и этот год, по словам, респондентов, сопряжен не столько с учебными нагрузками, сколько с переживаниями эмоциального и психологического толка.
Тем не менее, помимо готовности переживать стрессы от аспиранта ЕУ требуются весьма специфические для отечественного образовательного учреждения навыки академического чтения и академического письма: объемы прочитанных статей и монографий, не говоря о количестве написанных текстов, не идут ни в какое сравнение со стандартами того же факультета социологии. Но все эти навыки основываются в первую очередь на определенном знании иностранного языка (чем их больше, тем, понятно, лучше) – и требования к этому уровню коренным образом отличаются от тех стандартов, которые существуют в аспирантуре факультета социологии или ИСАНа.
Что аспирант получает взамен? Самое ценное, что дает ЕУ, помимо действительно иного стандарта полученных знаний и умений, это, конечно, включенность в зарубежные научные сети (понятно, что существует и обратная сторона медали -зачастую эта включенность подразумевает исключенность из российских научных сетей). Академический туризм, стажировки «там», европейский стиль жизни и, главное, участие в дележе исследовательских бюджетов грантодающих организаций (средняя исследовательская ставка – от 300 евро).
Самый большой недостаток МА разлива ЕУ постепенно начинает терять актуальность: речь идет о несоответствии между иностранными и отечественными степенями. Встав на путь Болонского процесса отечественная система образования тем самым сыграла на руку в том числе и ЕУ, главная проблема выпускников и сотрудников которых состояла в том, что их колоссальные достижения на внешнем рынке не имели никакого значения для представителей российской науки. Дело за собственным ученым советом – поскольку в виду его отсутствия защищать диссертацию аспирантам ЕУ приходится в других местах, и здесь уже – как повезет 11 .
Понятно, что есть еще такие места, как Институт Истории Естествознания и Техники, но это совсем другая дисциплина – собственно, история. Мимо социологии ИИЕТ проходит лишь по касательной: они смыкаются в точке социологии знания и социологии науки. Практически все специалисты в Петербурге, которые занимаются этими отраслевыми социологиями так или иначе аффилированы с ИИЕТом. Но в принципе, это уже совсем другое поле. Есть ЦНСИ; но предоставляя широкое поле для приобретения актуальных социологических практик, ЦНСИ не компетентен во всех делах, которые так или иначе связаны с государством: ни тебе отсрочки от армии, ни ученого совета. В общем, все те же минусы, что и в случае с ЕУ. Подводя итоги, очень хотелось бы избежать вывода – все пути хороши, выбирай себе на вкус. Сложность ситуации как раз в том состоит, что, во-первых, непонятно, из чего выбирать12, а во вторых – непонятно, что выбирать.
И в итоге получается весьма парадоксальная картина. В поле социологии нет достаточного количества ресурсов, чтобы прокормить всех профессионалов. Это автоматически превращает социологию в хобби для многих социологов – их источники существования лежат за пределами социологии (а один из критериев профессии – бюджетообразующий заработок). Но в наших руках сделать социологию профессией, а не хобби.