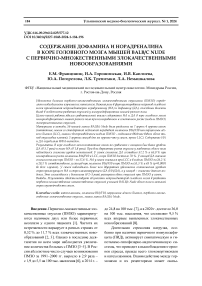Содержание дофамина и норадреналина в коре головного мозга мышей BALB/C NUDE с первично-множественными злокачественными новообразованиями
Автор: Франциянц Е.М., Горошинская И.А., Каплиева И.В., Погорелова Ю.А., Трепитаки Л.К., Немашкалова Л.А.
Журнал: Ульяновский медико-биологический журнал @medbio-ulsu
Рубрика: Биологические науки
Статья в выпуске: 1, 2024 года.
Бесплатный доступ
Увеличение больных первично-множественными злокачественными опухолями (ПМЗО) определяет необходимость изучения их патогенеза. Важная роль в функционировании нейронов головного мозга принадлежит нейромедиаторам норадреналину (НА) и дофамину (ДА), способным вносить вклад в особенности развития опухолей у иммунодефицитных мышей разного пола. Целью нашей работы явился сравнительный анализ содержания НА и ДА в коре головного мозга иммунодефицитных мышей разного пола при изолированном и сочетанном росте (модель ПМЗО) экспериментальных опухолей.
Катехоламины, меланома b16/f10, карцинома лёгкого льюиса, первично-множественные злокачественные опухоли, мыши линии balb/c nude
Короткий адрес: https://sciup.org/14129935
IDR: 14129935 | УДК: 616-09.29:612.825:577.12 | DOI: 10.34014/2227-1848-2024-1-184-196
Текст научной статьи Содержание дофамина и норадреналина в коре головного мозга мышей BALB/C NUDE с первично-множественными злокачественными новообразованиями
Введение. Первично-множественные злокачественные опухоли (ПМЗО) характеризуются наличием двух или более первичных неоплазм у одного пациента [1]. Частота их встречаемости варьирует в разных странах от 0,52 % до 11,7 % всех злокачественных новообразований [2, 3]. Однако в последние десятилетия во всем мире наблюдается увеличение количества больных с ПМЗО [3–5]. В России абсолютное число случаев возникновения ПМЗО за 1991–2000 гг. выросло в 2,9 раза – с 1,9 до 5,5 на 100 тыс. населения [6], к 2014 г. – до 24,8 на 100 тыс. [7], а в 2020 г. достигло 36,0 на 100 тыс. населения, что составляет 9,5 % всех впервые выявленных злокачественных новообразований [8].
Длительная стрессовая нагрузка, особенно при наличии первичного иммунодефицита (ПИД), активирует симпатическую и ги-поталамо-гипофизарно-надпочечниковую системы, что приводит к высвобождению гормонов стресса, прежде всего глюкокортикоидов и катехоламинов. Взаимодействие между гормонами и их рецепторами может оказы- вать ряд физиологических эффектов на опухолевые и стромальные клетки [9]. Влияние хронического стресса на заболеваемость и прогрессирование многих видов рака показано в исследованиях как на людях, так и на животных [10, 11]. При этом несколькими крупными когортными исследованиями продемонстрирован повышенный относительный риск развития рака у пациентов с ПИД [12, 13].
Возникающие в лечении сложности [14] наряду с прогрессирующим ростом заболеваемости диктуют необходимость изучения патогенеза ПМЗО с целью разработки эффективных критериев диагностики и усовершенствования тактики лечения. Важную роль в понимании патогенетических основ канцерогенеза играют экспериментальные модели. Для создания модели ПМЗО нами использованы штаммы меланомы В16/F10 и карциномы легкого Льюиса (LLC), которые одномоментно перевивались мышам BALB/c Nude. Сочетанная перевивка самкам меланомы B16/F10 справа и LLC слева увеличивала злокачественный потенциал меланомы и уменьшала злокачественный потенциал LLC, что выражалось в увеличении объема первой и уменьшении объема второй, при этом продолжительность жизни животных уменьшалась по сравнению с самостоятельной перевивкой каждой опухоли (патент № 2759487) [15]. У самцов в модели ПМЗО наблюдался рост обеих опухолей – меланомы B16/F10 и LLC, что также сопровождалось уменьшением продолжительности жизни животных. При изолированной перевивке подкожный узел LLC не формировался вовсе, тогда как объем меланомы был статистически значимо больше, чем в модели ПМЗО [16]. Ранее установлено, что на развитие меланомы B16/F10 у мышей оказывают влияние различные коморбидные патологии, в т.ч. наличие хронической нейропатической боли [17], при этом более агрессивному течению злокачественного процесса под влиянием боли у самок мышей способствует ограничение включения стресслимитирующих механизмов в головном мозге [18].
Как известно, дофамин, норадреналин, адреналин и серотонин, играют важную роль в различных неврологических функциях, поскольку, являясь нейротрансмиттерами, изменяют синаптическую активность и, следовательно, функционирование нейронов [19]. Дофамин участвует в движении, обучении и мотивации, генерируя тормозящие постсинаптические потенциалы. Нейроны, синтезирующие норадреналин, имеют свои клеточные тела в области ствола головного мозга и посылают проекции в другие области головного мозга, гипоталамус и спинной мозг. Изменение уровня биогенных аминов в головном мозге коррелирует с церебральными дисфункциями и состоянием животных в целом [20, 21].
В обзоре C. Sarkar et al. освещена регуляторная роль катехоламиновых нейротрансмиттеров в регуляции опухолевого ангиогенеза и опухолевого иммунитета, имеющих большое значение в процессе канцерогенеза. Показано, что дофамин ингибирует опухолевый ангиогенез и стимулирует опухолевый иммунитет, тогда как норадреналин и адреналин стимулируют ангиогенез и ингибируют иммунные функции при раке [22].
Высокая концентрация катехоламинов в зоне роста злокачественных опухолей на ранних стадиях канцерогенеза способствует выживанию и пролиферации неопластических клеток в условиях гипоксии [23]. Установлено также, что уровень дофамина в коже коррелирует с частотой возникновения в ней меланоцитарных и немеланоцитарных опухолей [24].
Согласно данным последних лет раковые клетки используют сигнальный путь, инициируемый нейротрансмиттерами, для активации неконтролируемой пролиферации и диссеми-нации. Показано также, что нейротрансмиттеры могут воздействовать на иммунные и эндотелиальные клетки в микроокружении опухоли, способствуя ее прогрессированию [25]. В этой связи, исходя из значимости катехола-минергических медиаторных систем в процессах опухолевого развития, рассматриваются перспективы разработки стратегий лечения рака, основанных на использовании катехоламинов и/или их агонистов/антагонистов в качестве новых противоопухолевых препаратов [22, 25].
Цель исследования. Сравнительный анализ содержания дофамина и норадреналина в коре головного мозга иммунодефицитных мышей разного пола при изолированном и сочетанном росте (модель ПМЗО) экспериментальных опухолей.
Материалы и методы. Исследование проведено на полученных из ФГБУН «Научный центр биомедицинских технологий ФМБА» (филиал «Андреевка», Московская область) 56 мышах обоего пола линии BALB/c Nude, 8–9-недельного возраста, массой тела 21–22 г. Мыши содержались в одинаковых условиях при естественном режиме освещения, температуре воздуха 22–26 °С, относительной влажности воздуха 40–75 % со свободным доступом к воде и пище (режим кормления и поения ad libitum). Работа проводилась в соответствии с Директивой Европейского парламента и Совета Европейского союза 2010/63/ЕС от 22 сентября 2010 г. о защите животных, использующихся для научных целей. Все манипуляции производились в боксе с соблюдением общепринятых правил асептики. Протокол экспериментального исследования одобрен Комиссией по биоэтике ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава России от 01.09.2020 (протокол № 21/99).
Штаммы опухолевых клеток (мышиной меланомы В16/F10 и карциномы легких Льюиса) были получены из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России.
Мыши были разделены на 7 групп (по 8 мышей в каждой): 4 группы самок (интактные, с изолированной перевивкой меланомы В16/F10 (подкожно ниже правой лопатки 0,5 мл взвеси меланомы В16/F10) или LLC (подкожно ниже левой лопатки 0,5 мл взвеси LLC), с моделью ПМЗО (перевивка меланомы В16/F10 справа и LLC слева на одну мышь в тех же дозах) и 3 группы самцов (те же группы, что и для самок, за исключением LLC в самостоятельном варианте, которая у самцов не воспроизводилась). Взвесь клеток В16/F10 или LLC готовилась на физиологическом растворе в разведении 1:20, в 0,5 мл взвеси содержалось 0,5 млн клеток.
Мыши декапитировались на гильотине на 22-е сут после перевивки опухолей, по- скольку с этих суток начиналась гибель животных с ПМЗО, продолжительность жизни которых была минимальной по сравнению с изолированным ростом опухолей. Для исследования забиралась кора головного мозга и на льду готовились 1 % цитозольные фракции на 0,1 М калий-фосфатном буфере рН 7.4, содержащем 0,1 % Твин-20 и 1 % БСА. В цитозольной фракции гомогенатов методом ИФА определялось содержание дофамина (ДА) и норадреналина (НА) (IBL International, Германия).
Статистическая обработка полученных результатов проводилась на персональном компьютере посредством программы STA-TISTICA 10.0 при помощи параметрического критерия Стьюдента, поскольку данные всех групп соответствовали закону о нормальном распределении. Результаты представлены в виде среднего значения и стандартного отклонения среднего (M±σ), указаны также медиана и значения нижнего и верхнего квартилей (Me [Q25; Q75]). Сравнение данных опытных групп с показателями интактных животных производилось попарно. Различия считались статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и обсуждение. У самок с ПМЗО динамика роста опухолей имела особенности. Так, на 15-е сут объем меланомы В16/F10 в модели ПМЗО был в 2,8 раза больше, а объем LLC, напротив, в 2,2 раза меньше, чем при изолированном росте каждой из опухолей. На 22-е сут объем меланомы В16/F10 в модели ПМЗО был в 1,8 раза больше, а объем LLC в 2,3 раза меньше, чем при самостоятельной перевивке. У самцов в модели ПМЗО на 15-е сутки В16/F10 и LLC имели сравнимые объемы, при этом объем подкожного узла меланомы В16/F10 был в 7,2 раза меньше, чем при самостоятельном варианте роста. На 22-е сут объем меланомы В16/F10 в модели ПМЗО хотя и увеличился в 6,6 раза по сравнению с предыдущим периодом, но оставался в 2,6 раза меньше, чем при самостоятельном варианте роста, а объем LLC увеличился относительно объема соответствующей опухоли на 15-е сут в 3,1 раза.
Уровни ДА и НА в коре головного мозга мышей BALB/c Nude оказались сниженными практически при всех вариантах роста опу- холей вне зависимости от пола животных (табл. 1).
У интактных мышей линии BALB/c Nude выявлены существенные различия в соотношении катехоламинов, зависящие от пола животных: у самок уровень ДА превышал уровень НА почти в 7 раз, в то время как у самцов различий в содержании этих моноаминов не наблюдалось. При этом у самок выше был уровень ДА (в 3,7 раза), а у самцов – уровень НА (в 1,8 раза) по сравнению с соответствующими показателями животных другого пола (табл. 1).
Таблица 1
Table 1
Содержание биогенных аминов в коре головного мозга мышей BALB/c Nude с моделью ПМЗО
Biogenic amine content in BALB/c Nude mice cerebral cortex, MPMT model
|
Группы животных Animal groups |
ДА, нг/г ткани DA, ng/g in tissue samples |
НА, нг/г ткани NE, ng/g in tissue samples |
Индекс НА/ДА NE/DA index |
|
Самки / Females |
|||
|
Интактные Intact animals |
150,6±7,8 148,4 [144,7; 156,5] |
22,1±2,75 21,2 [20,0; 24,2] |
0,146±0,011 144,7 [0,138; 0,155] |
|
Меланома В16/F10 B16/F10 melanoma |
64,4±2,51 63,6 [61,9; 65,9] р=0,0000 |
23,5±1,82 23,9 [21,4; 25,5] р>0,05 |
0,365±0,006 0,371 [0,363; 0,382] р=0,0000 |
|
Карцинома Льюиса Lewis lung carcinoma |
51,5±3,81 50,25 [48,6; 54,4] р=0,0000 |
16,3±1,07 16,4 [15,55; 17,05] р=0,0001 |
0,317±0,015 0,3115 [0,307; 0,327] р=0,0000 |
|
Меланома В16/F10 + карцинома Льюиса B16/F10 melanoma + Lewis lung carcinoma |
45,2±1,83 44,85 [43,85; 46,55] р=0,0000 |
15,9±1,14 16,15 [15,05; 16,75] р=0,00004 |
0,352±0,015 0,355 [0,3405; 0,3625] р=0,0000 |
|
Самцы / Males |
|||
|
Интактные Intact animals |
40,2±2,43 39,7 [38,4; 42,0] |
40,5±2,16 40,05 [38,9; 42,1] |
1,008±0,022 1,0075 [0,998; 1,013] |
|
Меланома В16/F10 B16/F10 melanoma |
39,3±1,1 38,8 [37,5; 40,1] р>0,05 |
18,9±1,66 18,45 [17,65; 20,15] р=0,0000 |
0,481±0,007 0,477 [0,461; 0,489] р=0,0000 |
|
Меланома В16/F10 + карцинома Льюиса B16/F10 melanoma + Lewis lung carcinoma |
25,1±1,79 25,25 [23,85; 26,35] р=0,0000 |
23,1±1,67 22,7 [21,85; 24,35] р=0,0000 |
0,921±0,028 0,9305 [0,899; 0,9425] р=0,00001 |
Примечание. р – статистическая значимость различий по отношению к показателю интактных животных соответствующего пола.
Note. p – the differences are significant compared with the intact animals of the same sex.
При всех вариантах опухолевого роста у самок наблюдалось снижение содержания ДА в 2,3–3,3 раза по сравнению с интактными самками, однако превалирование ДА над НА сохранялось на уровне 2,7–3,2 раза. При самостоятельном росте меланомы В16/F10 или LLC снижение содержания ДА в коре мозга у самок составило соответственно 57,2 % и 65,8 %, а при ПМЗО достигло 70 %. У самцов статистически значимо ДА снизился только при сочетанном росте обеих опухолей – на 37,6 % (р=0,000000 во всех случаях). Содержание НА у самок было снижено при LLC и ПМЗО на 26,2 % и 28,1 % (р<0,0001), а у самцов снижение уровня НА достигло 53,3 % и 43 % (р=0,000000) соответственно при меланоме В16/F10 и ПМЗО.
Суммарную концентрацию НА и адреналина (А) в крови или тканях относят к стрес-среализующим компонентам, а ДА и серотонин (С) рассматривают в качестве стрессли-митирующих компонентов [26], что позволило предложить стрессорный индекс: (А+НА)/(ДА+С), характеризующий уровень стрессогенности отдельных тканей, который успешно используется в экспериментальной онкологии [27]. Поскольку из всех моноаминов в нашей работе определялось содержание в ткани мозга только НА и ДА, мы рассчитали соотношение уровней этих катехоламинов (НА/ДА), которое также помогает оценить уровень стресса. Как оказалось, у самок при всех вариантах развития опухоли отмечалось увеличение индекса НА/ДА в 2,2–2,5 раза (р=0,000000), в то время как у самцов наблюдалось снижение данного показателя: при меланоме В16/F10 в 2,1 раза, а при ПМЗО лишь на 8,6 %, хотя и статистически значимо (р<0,00001).
Полученные нами данные о существенно меньшем снижении стрессреализующего нейромедиатора НА на фоне более выраженного снижения уровня стресслимитирующего ДА при опухолевом росте у самок по сравнению с самцами являются подтверждением стрессоустойчивости самцов. О большей подверженности стрессу именно самок свидетельствует наблюдаемое только у них более чем двукратное повышение индекса НА/ДА в коре головного мозга.
Согласно данным литературы медиальная префронтальная кора головного мозга, играющая решающую роль в регулировании реакции на стресс, получает ДА-эргические афференты, исходящие из вентральной тегментальной области, и этот путь имеет решающее значение в нервных цепях, которые участвуют в регуляции процессов в мозге [28]. Кроме того, ДА является важной частью адаптивного ответа на хронический стресс и участвует в регуляции прогрессирования опухоли и пролиферации раковых клеток [29–31]. X.R. Xu et al. показали, что хронический стресс способствует прогрессированию рака молочной железы у мышей BALB/c Nude. Авторы продемонстрировали, что повторная стимуляция нервных окончаний в префронтальной коре значительно ослабляет прогрессирование опухоли, вызванное хроническим стрессом [32].
Параллельно с исследованием содержания ДА и НА в тех же группах мышей BALB/c Nude нами был изучен уровень нейротрофи-нов [33], которые, согласно данным литературы, функционально связаны с катехола-минэргическими системами. Так, нейротро-фин-3 (NT-3) может способствовать внутриклеточному пути дифференцировки ДА-ерги-ческих нейронов [34], а фактор роста нервов (NGF) регулирует экспрессию генов нескольких функционально важных соединений, включая нейротрансмиттеры, рецепторы и белки, участвующие в передаче боли [35]. Было установлено, что уровень NGF снижается у животных обоего пола при всех вариантах опухолевого роста в 1,5–3 раза, а уровень NT-3 при ПМЗО повышается у самок лишь в 1,3 раза, а у самцов не изменяется [33]. Таким образом, в большинстве случаев выявленные половые различия касались содержания катехоламинов, а изменения уровня нейротро-финов были в основном однонаправленными у самок и самцов.
Сопоставление динамики концентрации изученных нейромедиаторов и нейротрофи-нов показало, что при самостоятельном росте меланомы В16/F10 в коре головного мозга мышей различия касались изменения уровня именно нейротрансмиттеров: у самок снижался ДА в 2,3 раза, а у самцов НА в 2,1 раза. Более выраженные половые различия отмечены при ПМЗО. В коре головного мозга самок максимально (в 3,3 раза) снизился уровень ДА при снижении содержания НА лишь в 1,4 раза и NGF в 2,6 раза, что позволяет думать о торможении стресслимитирующих процессов. У самцов наблюдалось сбалансированное снижение ДА (в 1,6 раза) и НА (в 1,8 раза) при значительном (в 2,6–3 раза) снижении уровня нейротрофинов BDNF и NGF, тогда как в мозге самок содержание BDNF и NT-3, напротив, было повышено (в 1,4 и 1,3 раза).
Важно, что размеры обеих опухолей в модели ПМЗО у самок, являющихся более подверженными стрессу, были в разы больше, чем у самцов: через три недели после перевивки опухолей различия в меланоме В16/F10 достигли 3,4 раза, в LLC – 1,7 раза [33]. Таким образом, полученные нами результаты указывают на наиболее активное участие нейромедиаторов коры головного мозга в реализации программ опухолевого роста у животных обоего пола, сопряженного, вероятно, с проявлениями хронического стресса.
Заключение. Сравнительный анализ содержания катехоламинов в коре головного мозга интактных самок и самцов мышей линии BALB/c Nude выявил значимые отличия: у самок был выше уровень ДА (в 3,7 раза), а у самцов – уровень НА в (1,8 раза). Как при самостоятельном росте меланомы В16/F10, так и особенно в модели ПМЗО выявлены статистически значимые изменения уровня катехоламинов в коре головного мозга мышей, степень выраженности которых зависит от пола животных и, возможно, играет определенную роль в агрессивности злокачественного процесса, обусловливая значительно больший размер опухолей у самок, обладающих меньшей стрессоустойчивостью.
Полученные нами данные согласуются с представлениями о роли катехоламинов головного мозга в регулировании стресс-реак-ции и значимости хронического стресса для злокачественного роста. Первичным, на наш взгляд, является злокачественный рост.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Вклад авторов
Концепция и дизайн исследования: Франциянц Е.М., Каплиева И.В.
Планирование эксперимента: Каплиева И.В.
Сбор, обработка экспериментального материала: Трепитаки Л.К., Погорелова Ю.А.
Проведение ИФА-анализа: Немашкалова Л.А., Погорелова Ю.А.
Статистическая обработка данных: Горошинская И.А.
Анализ и интерпретация данных: Горошинская И.А., Каплиева И.В.
Написание и редактирование текста: Горошинская И.А., Каплиева И.В.
Список литературы Содержание дофамина и норадреналина в коре головного мозга мышей BALB/C NUDE с первично-множественными злокачественными новообразованиями
- Peng C., Peng C., Li Z., Gao H., Zou X., Wang X., Zhou C., Niu J. Synchronous primary sigmoid colon cancer and primary thyroid cancer followed by a malignant tumor of the kidney: Case report of multiple primary cancer and review of the literature. Oncology letters. 2019; 17 (2): 2479-2484. DOI: 10.3892/ol.2018.9867.
- Lv M., Zhang X., Shen Y., Wang F., Yang J., Wang B., Yang J. Clinical analysis and prognosis of synchronous and metachronous multiple primary malignant tumors. Medicine (Baltimore). 2017; 96 (17): e6799. DOI: 10.1097/MD.0000000000006799.
- Weissman S., Sebrow J., Gonzalez H.H., Weingarten M.J., Rosenblatt S., Mehta T.I., Thaker R., Krzyzak M., Saleem S. Diagnosis of Primary Colorectal Carcinoma with Primary Breast Cancer: Associations or Connections? Cureus. 2019; 11 (3): e4287. DOI: 10.7759/cureus.4287.
- Важенин А.В., Шунько Е.Л., Шаназаров Н.А. Эволюция критериев первичной множественности и классификации первично-множественных злокачественных опухолей. Современные проблемы науки и образования. 2015; 6.
- ЛихачеваД.С., СоловьевВ.И. Частота возникновения множественных опухолей у лиц, ранее перенесших лечение по поводу злокачественных новообразований. Смоленский медицинский альманах. 2020; 1: 184-188.
- Старинский В.В., ПетроваГ.В., Чиссов В.И. Заболеваемость населения России злокачественными новообразованиями в 2000 г. Рос. онкол. журн. 2002; 3: 39-44.
- Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В., ред. Злокачественные новообразования в России в 2014 г. (заболеваемость и смертность). Москва; 2016.
- Каприн А.Д., Старинский В.В., Шахзадова А.О., ред. Злокачественные новообразования в России в 2020 г. (заболеваемость и смертность). Москва; 2021. URL: https://oncology-association.ru/medstat#nav-main (дата обращения: 12.03.2023).
- Chen G., Qiu L., Gao J., Wang J., Dang J., Li L., Jin Z., Liu X. Stress Hormones: Emerging Targets in Gynecological Cancers. Frontiers in cell and developmental biology. 2021; 9: 699487. DOI: 10.3389/fcell.2021.699487.
- Thaker P.H., Han L.Y., Kamat A.A., Arevalo J.M., Takahashi R., Lu C., Jennings N.B., Armaiz-Pena G., Bankson J.A., Ravoori M., Merritt W.M., Lin Y.G., Mangala L.S., Kim T.J., Coleman R.L., Landen C.N., Li Y., Felix E., Sanguino A.M., Newman R.A., Lloyd M., Gershenson D.M., Kundra V., Lopez-Ber-estein G., Lutgendorf S.K., Cole S. W., SoodA.K. Chronic stress promotes tumor growth and angiogenesis in a mouse model of ovarian carcinoma. Nat Med. 2006; 12 (8): 939-944. DOI: 10.1038/nm1447.
- Metcalfe C., Davey Smith G., Macleod J., Hart C. The role of self-reported stress in the development of breast cancer and prostate cancer: a prospective cohort study of employed males and females with 30 years of follow-up. Eur J Cancer. 2007; 43 (6): 1060-1065. DOI: 10.1016/j.ejca.2007.01.027.
- Jonkman-BerkB.M., Van Den Berg J.M., Ten BergeI.J., BrediusR.G., Driessen G.J., Dalm V.A. Primary immunodeficiencies in the Netherlands: national patient data demonstrate the increased risk of malignancy. Clin Immunol. 2015; 156 (2): 154-162. DOI: 10.1016/j.clim.2014.10.003.
- Mayor P.C., Eng K.H., Singel K.L., Abrams S.I., Odunsi K., Moysich K.B., Fuleihan R., Garabedian E., Lugar P., Ochs H.D., Bonilla F.A., Buckley R.H., Sullivan K.E., Ballas Z.K., Cunningham-Rundles C., Segal B.H. Cancer in primary immunodeficiency diseases: Cancer incidence in the United States Immune Deficiency Network Registry. The Journal of allergy and clinical immunology. 2018; 141 (3): 10281035. DOI: 10.1016/j.jaci.2017.05.024.
- Тихонова С.Н., Розенко Д.А., Ушакова Н.Д., Попова Н.Н., Скопинцев А.М., Шульга А.В., Тен И.А. Оптимизация анестезиологической тактики в хирургическом лечении первично-множественного немелкоклеточного рака лёгкого. Южно-Российский онкологический журнал. 2021; 2 (2): 42-49. DOI: 10.37748/2686-9039-2021-2-2-5.
- Франциянц Е.М., Каплиева И.В., Бандовкина В.А., Трепитаки Л.К., Сурикова Е.И., Погорелова Ю.А., Нескубина И.В., Котиева И.М., Шумарин К.А., Ишонина О.Г. Патент RU № 2759487; 2021.
- Франциянц Е.М., Каплиева И.В., Шихлярова А.И., Трепитаки Л.К., Сурикова Е.И., Бандовкина В.А., Нескубина И.В., Шумарин К.А., Котиева И.М. Способ создания полинеоплазии со стимуляцией опухолевого роста в условиях первичного иммунодефицита в эксперименте. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2021; 171 (6): 762-765.
- Кит О.И., Котиева И.М., Франциянц Е.М., Каплиева И.В., Трепитаки Л.К., Бандовкина В.А., Нескубина И.В., Сурикова Е.И., Черярина Н.Д., ПогореловаЮ.А., Немашкалова Л.А. Влияние хронической нейропатической боли на течение злокачественного процесса меланомы В16^10 у самцов мышей. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естественные науки. 2019; 201: 106-111.
- Кит О.И., Котиева И.М., Франциянц Е.М., Каплиева И.В., Трепитаки Л.К., Бандовкина В.А., Черярина Н.Д., Погорелова Ю.А., Бликян М.В. Нейромедиаторные системы головного мозга самок мышей в динамике роста злокачественной меланомы, воспроизведенной на фоне хронической боли. Патогенез. 2017; 15 (4): 49-55.
- Poojary R., Kumar N.A., Kumarchandra R., Sanjeev G., ShivanandaPai D., Vinodini N.A., Bhagyalak-shmi K. Assessment of monoamine neurotransmitters in the cortex and cerebellum of gamma-irradiated mice: A neuromodulatory role of Cynodondactylon. Journal of Carcinogenesis. 2020; 19 (6). DOI: 10.4103/jcar.JCar_13_19.
- Azat Aziz M., Shehab Diab A., Abdulrazak Mohammed A. Antioxidant categories and mode of action. Antioxidants; 2019: 1-20. DOI: 10.5772/intechopen.83544.
- Горошинская И.А., Нескубина И.В. Содержание моноаминов при гипобарической гипоксии и защитном эффекте пиразидола. Вопросы медицинской химии. 1998; 44 (3): 248-255.
- Sarkar C., ChakrobortyD., Basu S. Neurotransmitters as regulators of tumor angiogenesis and immunity: the role of catecholamines. J Neuroimmune Pharmacol. 2013; 8 (1): 7-14. DOI: 10.1007/s11481-012-9395-7.
- Calvani M., Cavallini L., Tondo A., Spinelli V., Ricci L., Pasha A., Bruno G., Buonvicino D., Bigagli E., Vignoli M., Bianchini F., Sartiani L., Lodovici M., Semeraro R., Fontani F., de Logu F., Dal Monte M., Chiarugi P., Favre C., Filippi L. ß3-Adrenoreceptors control mitochondrial dormancy in melanoma and embryonic stem cells. Oxid. Med. Cell. Longev. 2018; 2018: 816508. DOI: 10.1155/2018/6816508.
- Tchernev G., Lozev I., Temelkova I., Chernin S., Yungareva I. Schizophrenia as potential trigger for melanoma development and progression! The psychoneuro-endocrine-oncology (P.N.E.O) network! Open Access Maced. J. Med. Sci. 2018; 6 (8): 1442-1445. DOI: 10.3889/oamjms.2018.276.
- Jiang S.H., Hu L.P., Wang X., Li J., Zhang Z.G. Neurotransmitters: emerging targets in cancer. Oncogene. 2020; 39 (3): 503-515. DOI: 10.1038/s41388-019-1006-0.
- ПшенниковаМ.Г. Врожденная эффективность стресс-лимитирующих систем, как фактор устойчивости к стрессорным повреждениям. Успехи физиологических наук. 2003; 34 (3): 55-67.
- Каплиева И.В. Патогенетические аспекты метастатического поражения печени (экспериментальное исследование): автореф. дис. ... д-ра мед. наук. Ростов-на-Дону; 2019. 46.
- Hare B.D., Shinohara R., Liu R.J., Pothula S., DiLeone R.J., Duman R.S. Optogenetic stimulation of medial prefrontal cortex Drd1 neurons produces rapid and long-lasting antidepressant effects. Nat Commun. 2019; 10 (1): 223. DOI: 10.1038/s41467-018-08168-9.
- Mu J., Huang W., Tan Z., Li M., Zhang L., Ding Q., Wu X., Lu J., Liu Y., Dong Q., Xu H. Dopamine receptor D2 is correlated with gastric cancer prognosis. Oncol Lett. 2017; 13 (3): 1223-1227. DOI: 10.3892/ol.2017.5573.
- Surman M., Janik M.E. Stress and its molecular consequences in cancer progression. Postepy Hig Med Dosw (Online). 2017; 71 (0): 485-499. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3830.
- Weissenrieder J.S., Neighbors J.D., Mailman R.B., Hohl R.J. Cancer and the Dopamine D2 Receptor: A Pharmacological Perspective. J Pharmacol Exp Ther. 2019; 370 (1): 111-126. DOI: 10.1124/ jpet.119.256818.
- XuX.R., Xiao Q., Hong Y.C., Liu Y.H., Liu Y., Tu J. Activation of dopaminergic VTA inputs to the mPFC ameliorates chronic stress-induced breast tumor progression. CNS neuroscience & therapeutics. 2021; 27 (2): 206-219. DOI: https://doi.org/10.1111/cns.13465.
- Франциянц Е.М., Горошинская И.А., Трифанов В.С., Шумарин К.А., Каплиева И.В., Черярина Н.Д., ПогореловаЮ.А., Трепитаки Л.К., КотиеваИ.М., Снежко А.В. Содержание нейротрофинов в коре головного мозга мышей обоего пола с первично-множественными злокачественными новообразованиями. Современные проблемы науки и образования. 2022; 4. DOI: 10.17513/spno.31867.
- Moradian H., Keshvari H., Fasehee H., DinarvandR., Faghihi S. Combining NT3-overexpressing MSCs and PLGA microcarriers for brain tissue engineering: A potential tool for treatment of Parkinson's disease. Mater SciEng C Mater Biol Appl. 2017; 76: 934-943. DOI: 10.1016/j.msec.2017.02.178.
- Severini C., Petrocchi Passeri P., Ciotti M.T., Florenzano F., Petrella C., Malerba F., Bruni B., D'On-ofrio M., Arisi I., Brandi R., Possenti R., Calissano P., Cattaneo A. Nerve growth factor derivative NGF61/100 promotes outgrowth of primary sensory neurons with reduced signs of nociceptive sensitization. Neuropharmacology. 2017; 117: 134-148.