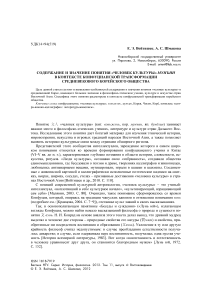Содержание и значение понятия «человек культуры» мунъин в контексте конфуцианской трансформации средневекового корейского общества
Автор: Войтишек Елена Эдмундовна, Шмакова Анна Сергеевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Исследования
Статья в выпуске: 4 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Цель данной статьи состоит в выявлении особенностей содержания и значения понятия «человек культуры» в средневековой Корее, имеющего большое значение в философско-этическом учении, культуре и искусстве стран Восточной Азии. Специфика этого понятия рассмотрена в контексте конфуцианской трансформации корейского общества.
Конфуцианство, "человек культуры", вэньжэнь, мунъин, корея, чосон, корё, комплекс "цитра-шашки-каллиграфия / литература-живопись"
Короткий адрес: https://sciup.org/14737819
IDR: 14737819 | УДК: 14+94(519)
Текст научной статьи Содержание и значение понятия «человек культуры» мунъин в контексте конфуцианской трансформации средневекового корейского общества
Понятие 文人 «человек культуры» (кит . вэньжэнь , кор. мунъин, яп . бундзин ) занимает важное место в философско-этических учениях, литературе и культуре стран Дальнего Востока. Исследование этого понятия дает богатый материал для изучения этнической истории, мировоззрения, искусства и игровых традиций народов Восточной Азии, а также позволяет выявить историко-культурные связи между странами обширного региона.
Представителей этого сообщества интеллектуалов, зарождение которого в самом широком понимании относится ко времени формирования конфуцианского учения в Китае (VI–V вв. до н. э.), характеризовали глубокие познания в области истории, словесности, искусства, ритуала. «Люди культуры», осознавая свою «избранность», создавали общества единомышленников, где беседовали о поэзии и драме, творениях каллиграфов и живописцев, любовались антикварными вещами, музицировали, играли в шашки и шахматы. Соединенные с живописной картиной и каллиграфически исполненные поэтические надписи на свитках, веерах, ширмах, сосудах, стелах – признанные достижения «человека культуры» в странах Восточной Азии [Войтишек и др., 2010. С. 110].
С позиций современной культурной антропологии, «человек культуры» - это ученый-интеллектуал, «воплотивший в себе культурное начало», «культивирующий, взращивающий сам себя» [Малявин, 2003. С. 80]. Очевидно, такое понимание сформировалось со времен Конфуция, который, опираясь на традиции чжоуских канонов в отношении понимания вэнь (подробнее см.: [Кравцова, 2004. С. 7-9]), отстаивал культ знаний в своих высказываниях.
Так, в основополагающем памятнике «Беседы и суждения» («Лунь юй»), излагающем взгляды Конфуция, можно найти немало высказываний философа о природе и сущности понятия 文 вэнь . Н. И. Конрад на основе анализа этого текста делал вывод, что древний мудрец выделял в человеке две стороны – природные свойства его натуры ( 質 чжи ) и свойства, приобретенные им посредством воспитания и образования ( 文 вэнь ). Уклонение в ту или другую крайность философ считал недопустимым: в случае преобладания естественности получалось дикарство; в случае, если одерживала верх воспитанность, получалась одна пустая ученость [История всемирной литературы, 1983]. Вот когда «воспитанность и естественность в человеке уравновесят друг друга, он становится благородным мужем» [Лунь юй, 1972. С. 152].
ISSN 1818-7919
Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 4: Востоковедение © E. Э. Войтишек, А. С. Шмакова, 2012
Вероятно, именно такая трактовка легла впоследствии в основу понятия «человек культуры», окончательно сложившегося в Китае в средние века, когда конфуцианское слово 君子 цзюнцзы («человек высоких достоинств», «благородный муж») стало употребляться наряду с 文人 вэньжэнь . В. В. Малявин указывает на два фактора, непременно сопровождавших жизнь средневекового «человека культуры»: «чиновничья служба и свободное служение музам», т. е. занятия, опирающиеся на владение разнообразными формами досуга и приносящие радость творчества. Такое состояние В. Малявин называет «праздностью» высокой степени духовности, имеющей отношение не к лености и безделью, а к стихии игры, бесконечному открытию горизонтов своего опыта [2003. С. 81-95].
Вслед за сменой династий в истории Китая менялось и значение этого понятия. Исследователями были выдвинуты различные его интерпретации, однако основным содержательным моментом, позволявшим отнести того или иного чиновника к сообществу вэньжэнь , считалось стремление его представителей к знаниям в области истории, словесности и к сочинению литературных произведений.
Что касается корейской духовной культуры, то ее специфика во многом обусловлена положением Кореи в географическом пространстве и целым рядом историко-культурных факторов. Примерно с III в. до н. э. по IX в. н. э. корейцы транслировали на японский архипелаг основные достижения материковой материальной и духовной культуры, что дает основание предположить, что при этом довольно рано, вместе с влиянием и развитием конфуцианства, были заимствованы и успешно адаптированы на корейской и японской почве идеи и образы, связанные с китайским понятием «человек культуры» [Войтишек, 2011. С. 165].
Оставив пока в стороне особенности развития этого понятия в японской культуре, обратимся к корейскому материалу. Хронологические рамки данной работы охватывают I в. до н. э. – X в., что в современной южнокорейской периодизации соответствует периоду древней истории Кореи, который, в свою очередь, подразделяется на периоды Трех государств и Объединенного Силла [Тихонов, Кан Мангиль, 2011. С. 524].
Отечественные востоковеды, занимающиеся изучением особенностей развития конфуцианства и неоконфуцианства в Корее, посвятили немало трудов этой сложной теме. Среди них можно отметить работы таких известных исследователей, как И. А. Толстокулаков, Г. Н. Ким, В. С. Хан и др. В этих трудах подробно рассматриваются не только идеи философско-этического учения и историческая канва событий, связанных с утверждением конфуцианства как основной идеологии и формированием конфуцианского государства на Корейском полуострове в период династии Ли эпохи Чосон. Там подробно описывается процесс формирования национальной культуры с конфуцианским стержнем, дается ответ на вопрос, почему буддизм, несмотря на высокую популярность, в указанный период не смог конкурировать с официальным конфуцианством.
Так, И. А. Толстокулаков в статье «Культура государства Чосон» отмечает, что утверждению конфуцианства в качестве официальной идеологии в корейском обществе способствовала острая потребность в знаниях, необходимых для ведения государственных дел. Интеллектуальная и административная элита не приняла буддизм, поскольку он не соответствовал потребностям времени и мешал населению концентрироваться на решении практических жизненных проблем. Развитию конфуцианства способствовала и забота об утверждении выгодных власти моральных принципов с целью регулирования человеческих отношений и норм поведения, и, наконец, о легитимности самой власти. Корейская администрация на примере Китая видела, что представители конфуцианства способны решать данные проблемы, и это обеспечивало им расположение и покровительство феодального государства 1.
Вопросы, связанные с конфуцианской трансформацией корейского общества, подробно рассматриваются и в зарубежной науке. В частности, заслуживает внимания труд профессора Киотоского университета Кан Чэына (Kang Jae-eun) «Две тысячи лет корейского конфуцианства» («Two Thousand Years of Korean Confusianism») [2006]. В этой работе автор описывает особенности проникновения и адаптации конфуцианской идеологии в Корее, а также затрагивает вопрос, насколько конфуцианские идеи отвечали общественно-политическим задачам на разных этапах истории Кореи.
Исследователь рассматривает примеры бытования конфуцианской идеологии в эпоху Корё и Чосон и анализирует различные факторы, обусловившие предпочтения корейской элиты в отношении к конфуцианству. В частности, называются такие важные факторы, как наличие логики в этом учении, соответствие конфуцианских категорий (преданность, сыновняя почтительность, доверие, гуманность) интересам правящего класса, единство внутренних нравственных принципов и внешних социальных правил и пр. Кан Чэын отмечает, что эпоху Корё можно назвать временем полемики двух идеологий – конфуцианства и буддизма [Kang Jae-eun, 2006. P. 78].
По мнению корейского исследователя Хан Ёнъу, становление династии Ли совпало по времени со сменой аристократического правления бюрократическим. Соответственно место буддизма заняло конфуцианство, что, в свою очередь, привело к «культурной революции». Чон Доджон, стоявший во главе критиков буддизма, в 1398 г. создал трактат «Пульсси чап-пён» («Разнообразные превращения Будды»), появление которого знаменовало расцвет конфуцианской политики [Хан Ёнъу, 2010. С. 287].
Критика буддизма также отчетливо прослеживается в 28 наставлениях главы правительства Корё мунхасиджун (должность министра первого ранга) 崔承老 Чхве Сынно (927–989) вану 宣宗王 Сонджону (981/982-997). Содержание этих наставлений сводится к рекомендациям о том, как укрепить верховную власть и обеспечить присутствие ее представителей даже на самых низких постах в провинции. Обратимся к тексту памятника.
«…Думайте о красоте совершенства так, чтобы сделать начало хорошим, не следует отдыхать, даже если каждый день предназначен для отдыха… Не думайте высокомерно о себе, даже будучи правителем и находясь в большом почете… Удача придет сама без усилий, так же и несчастье исчезнет само собой без страстного желания этого…» (цит. по: [Kang Jae-eun, 2006. Р. 95]).
Фраза «несчастье исчезнет само собой» трактуется корейским исследователем Кан Чэы-ном как предостережение правителю не увлекаться буддизмом.
Среди прочих важными причинами критики буддизма указывались антиправительственные действия буддистских монахов (неуважение к чиновникам, разбой на станциях и постоялых дворах) и непомерные траты средств из государственной казны на строительство роскошных храмов и проведение праздников. В связи с этим важной задачей, поставленной и решенной министром Корё Чхве Сынно, стало размежевание буддизма и конфуцианства, предотвращение причин их смешения и объединения.
Обратимся снова к тексту наставлений вану Сонджону.
«…И конфуцианство, и буддизм полезны, но они не должны восприниматься как единое целое. Практика буддизма – это основа нравственного воспитания, практика конфуцианства – это основа управления государством. Очищение ума нужно в жизни следующей, а крепкое государство уже сейчас. Завтра дальше, чем сегодня. Так разве не правильно заниматься тем, что близко?» [Ibid. P. 94].
Таким образом, в начале эпохи Корё буддизм был признан второстепенным идеологическим направлением по отношению к конфуцианству.
Наряду с вышеупомянутым трудом необходимо отметить монографию профессора Лондонского университета Мартины Дойхлер «Конфуцианская трансформация Кореи. Исследование общества и идеологии» (Duechler M. «Confusian Transformation of Korea. A Study of Society and Ideology») [1992], изданную при участии Гарвардского университета. В этом труде автор описывает общество эпохи Корё до приобретения неоконфуцианством статуса государственной идеологии, а также ситуацию в Корее периода Чосон династии Ли, на который как раз приходится пик развития неоконфуцианства и «бум учености». Так, законопроект, который предусматривал внесение изменений в жизнь корейского общества в соответствии с неоконфуцианской идеологией, издан в 1392 г., когда было основано государство
Чосон династии Ли. В ходе его реализации к середине XVII в. были достигнуты поставленные цели.
До исследования М. Дойхлер в зарубежной литературе по истории Кореи не было работ, в которых так подробно был бы рассмотрен процесс сопротивления общества того времени неоконфуцианским изменениям. Чтобы объяснить, какие аспекты жизни общества периода Корё, предшествующего периоду Чосон, не устраивали реформаторов и почему, М. Дойхлер с позиций социальной антропологии объясняет такие явления, как поклонение предкам, траур, наследование, брак, а также анализирует положение женщин и формирование наследственных групп. Она прослеживает сдвиги в общественно-политических структурах, происходившие под влиянием неоконфуцианских идей, отмечает кумулятивный эффект изменений с течением времени, в результате чего формулирует ряд выводов об особенностях социальной и идеологической ситуации корейского общества эпохи Чосон.
Г. Н. Ким и ряд других специалистов по истории Кореи считают, что духовная жизнь населения полуострова до проникновения из Китая философско-этического учения уже носила конфуцианский характер. Культ предков, в том виде, в котором он существовал у протокорейцев, не противоречил основным идеям философско-этической системы конфуцианства. Именно этот факт и послужил причиной успешного старта конфуцианской трансформации всех сфер корейского общества 2.
Конфуцианские классические произведения проникли на Корейский полуостров вместе с ранними образцами китайской письменной литературы до нашей эры. Вероятно, общие конфуцианские представления вместе с иероглифической письменностью были переданы представителям знати протокорейских племен во время существования на Корейском полуострове китайской колонии Лолан (108 г. до н. э. – III в. н. э.).
К IV в. н. э. на полуострове окончательно сформировались государства Когурё, Пэкче и Силла. В письменных памятниках этих государств уже содержалась информация, свидетельствующая о раннем влиянии конфуцианства. Так, согласно предположениям большинства современных российских и зарубежных корееведов, первые упоминания о конфуцианстве в Корее встречаются как раз в древних корейских источниках эпохи Объединенного Силла (668–935): «Хэдон Коги» 海東古記 («Древние записи [истории] Восточных пределов»), «Самхан Коги» ( 三韓古記 «Древние записи трех Хан»), «Силла Коги» ( 新羅古記 «Древние записи Силла») (см. работы Г. Н. Кима, В. С. Хана, М. Н. Пака и др.). К сожалению, указанные сочинения не сохранились для потомков, в связи с чем трудно говорить с определенностью о влиянии конфуцианской морали на раннее корейское общество.
Исходя из этого, более правомерно считать самым первым источником, свидетельствующим о делах корейской древности с конфуцианских позиций, хронику «Самгук саги» ( 三國史記 «Исторические записки трех государств»). Памятник создан в 1145 г. придворным историографом Ким Бусиком, который написал книгу «правильных поступков для будущих поколений», взяв за основу исторические сведения о трех государствах Корейского полуострова [Kang Jae-eun, 2006. Р. 25].
Как сообщается в главе «Когурё Понги» ( 高句麗本紀 , «Анналы Когурё») «Исторических записок трех государств» Ким Бусика, 17-й когурёсский ван 小獸林王 Сосурим (371-384) основал Национальную конфуцианскую академию 太學 «для культивирования благородных людей, способных укрепить конституцию» [Ibid. P. 37]. Именно факт основания академии явился поворотным моментом, началом конфуцианской трансформации всех сфер жизни корейского общества.
По свидетельству ученых, помимо Национальной академии действовали и частные конфуцианские академии, создаваемые в провинциях. По-видимому, еще раньше подобные учебные заведения появились в государстве Пэкче [Ibid. P. 59].
Конфуцианизация затронула все сферы жизни корейского общества. После объединения трех государств в 682 г. был образован Государственный конфуцианский университет, где на всех факультетах в обязательном порядке преподавали учение Конфуция. Во времена династии Тан (712–756) многие корейские ученые-конфуцианцы и буддистские монахи учились в Китае, перенимая нормы научной, социально-политической и религиозной культуры.
В 778 г. в Корее под влиянием конфуцианских идей была введена система государственных экзаменов по китайскому образцу, что позволило поставить образование под государственный контроль, а науку на службу государству. По утверждению южнокорейских ученых, в период позднего Силла (779 – начало X в.) корейская элита познакомилась с литературой и культурой китайской династии Тан и восприняла ее нравственные установки. В «Истории династии Тан» («Тан шу») в главе о Силла написано: «Силла – страна добродетельных людей. Они хорошо знают композицию, используют образные выражения из китайской классики и изречения ученых… многие из силласцев хорошо играют в облавные шашки вэйци )…» (цит. по: [Kang Jae-eun, 2006. Р. 63]).
Несмотря на то, что наиболее сильные позиции на Корейском полуострове конфуцианство стало занимать только в эпоху Чосон (1392–1910), когда оно служило основой политической и образовательной систем государства [Kang Jae-eun, 2006. Р. 1], именно с периода позднего Когурё (901–918) китайское неоконфуцианство стало движущей интеллектуальной силой, под воздействием которой возник новый общественный слой с особенным представлением об общественной и культурной организации - слой ученых-конфуцианцев, «людей культуры» мунъин.
Как представители интеллектуальной элиты «люди культуры» на протяжении многих сотен лет в Китае и Корее играли важную роль в управлении государством, осуществляя на практике основные философско-этические постулаты конфуцианства. Появлению класса ученых-интеллектуалов в Корее так же, как в Китае, во многом способствовало распространение этого учения, с его каноническими текстами, обладавшими в том числе и мощным зарядом учительства, что унифицировало духовную культуру «стран конфуцианского культурного региона» [Переломов, 2007, С. 12]. Под влиянием конфуцианских идей в Китае и Корее сформировался социальный слой № ши (досл. «наставник», «учитель», «мастер»), подразумевающий своеобразную категорию протоинтеллигенции, ученых-книжников, творчество и стиль жизни которых значительно обогатили культуру синоиероглифического региона Восточной Азии. Более того, как правило, именно через высокоинтеллектуальные занятия, путем определенных морально-нравственных усилий, направленных на досуговое времяпрепровождение неординарного характера, «человек культуры» мог достичь высокой степени социализации, чему, несомненно, способствовали конфуцианские принципы общественной морали.
Что касается понятия мунъин и проблем его трансформации в корейской культуре, то эти вопросы до сих пор остаются малоизученными не только в отечественном востоковедении, но и в трудах зарубежных ученых. Частично этот вопрос рассматривался в монографии Е. Э. Войтишек в контексте анализа специфики понимания сущности игры и игрового поведения дальневосточных сообществ, а также в плане развития игровых традиций Кореи как части культуры региона Восточной Азии [Войтишек, 2011].
Так, в Восточно-Азиатском регионе владение различными видами интеллектуального досуга в среде чиновничества и образованной части общества считалось практически обязательным. В связи с этим с учетом синкретичности восточного мировоззрения и искусства представляется закономерным формирование в иероглифических культурах важного понятия ^Ж #® (кит. цин-ци-шу-хуа , кор. кым-ки-сэ-хва , яп. кин-ки-сё-га ), который буквально означает «цитра-шашки-литература (каллиграфия)-живопись». За время своего существования это понятие широко распространилось в этике и мировоззрении, литературе и культуре Китая, Кореи и Японии, особенно ярко воплотившись в живописи и прикладном искусстве [Войтишек, 2011. С. 28-29].
Уточняя содержание данного понятия для Кореи, необходимо отметить, что оно подразумевает игру на старинном щипковом инструменте комунго , владение каллиграфической техникой, живописными приемами и знание стратегии интеллектуальной игры в шашки падук (кит. вэйци ). Такое сочетание добродетелей и талантов почиталось за образец идеального человека Средневековья , которому следовало подражать .
Таким образом, тот набор необходимых знаний и навыков, взятый на вооружение образованным корейским сословием из Китая, на основе которого впоследствии в Корее сформировался «человек культуры», был успешно освоен еще в VIII в. Конфуцианство, сыграв роль катализатора в стремлении населения Корейского полуострова к духовному единению, «рассматривая человека как члена коллектива, создало идеал образцовой личности, сочетающей в себе нравственность и культуру» [Троцевич, 2010. С. 6]. Воплощением этой образцовой личности в корейском обществе и стали ученые-интеллектуалы мунъин , потенциал которых еще до конца не изучен.
В настоящее время нельзя сказать, что конфуцианские идеи в Корее (и в Северной, и в Южной) забыты. Несмотря на то, что конфуцианской церкви как таковой не существует в принципе, есть все же конфуцианские организации. Регулярно проводятся ритуалы, связанные с поминовением предков, и памятные церемонии в честь выдающихся конфуцианцев прошлого. В Республике Корея до сих пор действуют свыше 200 конфуцианских академий со святилищами 鄕校 хянгё , где молодых людей обучают традиционным ценностям и манерам. В настоящее время университет Сонгюнгван в Сеуле является признанным центром конфуцианства в стране и почитается как святилище Конфуция, где ежегодно весной и осенью проходят пышные церемонии. Так осуществляется попытка сочетать конфуцианские ценности с задачами современного общества 3.
Учитывая все вышеизложенное, для комплексного анализа процессов конфуцианской трансформации в корейском обществе представляется очень важным и актуальным подробное изучение формирования и развития аспектов понятия мунъин , тем более что этот процесс еще не закончен .
CONTENT AND MEANING OF THE CONCEPT OF «MAN OF CULTURE» MUN’IN IN THE CONTEXT OF THE CONFUCIAN TRANSFORMATION OF MEDIEVAL KOREAN SOCIETY
The main purpose of this article is to identify the features of the content and meaning of the concept of «man of cul-ture» mun’in. This concept is very important in the philosophical ethical doctrine, culture, and art of East Asian countries. A specific character of this concept is considered in the context of the Confucian transformation of Medieval Korean society.