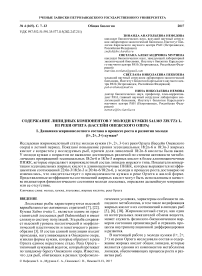Содержание липидных компонентов у молоди кумжи Salmo trutta L. из реки Орзега (бассейн Онежского озера). I. Динамика жирнокислотного состава в процессе роста и развития молоди (1+, 2+, 3+) кумжи
Автор: Нефедова Зинаида Анатольевна, Мурзина Светлана Александровна, Пеккоева Светлана Николаевна, Немова Нина Николаевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Биология
Статья в выпуске: 4 (165), 2017 года.
Бесплатный доступ
Исследован жирнокислотный статус молоди кумжи (1+, 2+, 3+) из реки Орзега (бассейн Онежского озера) в летний период. Показано повышение уровня эссенциальных 18:2n-6 и 18:3n-3 жирных кислот с возрастом у исследуемых рыб, причем доля линолевой 18:2n-6 кислоты была выше. У молоди кумжи с возрастом не выявлено достоверных различий по степени активности метаболических превращений эссенциальных 18:2n-6 и 18:3n-3 жирных кислот в более длинноцепочечные ПНЖК, которые определяют жирнокислотный состав липидов морского типа. Показатели конвертации эссенциальных жирных кислот в длинноцепочечные ПНЖК, которые выражаются коэффициентами соотношений 22:6n-3/18:3n-3 и 20:4n-6/18:2n-6, у молоди в процессе роста достоверно не изменились, что свидетельствует о принадлежности кумжи в реке Орзега к жилой форме. Представленные коэффициенты соотношений жирных кислот могут быть использованы в качестве индикаторов физиологического состояния молоди лососевых, определяя дальнейшую миграцию или ее отсутствие.
Молодь, кумжа, лососевые, жирные кислоты, река орзега
Короткий адрес: https://sciup.org/14751419
IDR: 14751419 | УДК: 597.552.51:591.35:577.115(282.247.211)
Текст научной статьи Содержание липидных компонентов у молоди кумжи Salmo trutta L. из реки Орзега (бассейн Онежского озера). I. Динамика жирнокислотного состава в процессе роста и развития молоди (1+, 2+, 3+) кумжи
Лососевые рыбы характеризуются высокой вариабельностью жизненных стратегий [7], [22]. Кумжа Salmo trutta L. является одним из представителей лососевых рыб (Salmonidae) и имеет сложную систему популяций. Эта рыба сохраняет высокий уровень экологической и морфологической пластичности и генетического разнообразия [3]. В состав единой популяции входят проходная, нагуливающаяся в Онежском озере, и жилая формы кумжи, которые образуют в реке Орзега единое нерестовое стадо. Река Орзега – типичный кумжевый водоток, который протекает по западному берегу Онежского озера. Известно, что для рыб, обитающих в разных трофоэколо- гических условиях, характерны особенности липидного метаболизма, в том числе модификация жирных кислот и их соотношений в липидах рыб [5], [6], [18]. Жирнокислотный статус, как один из интегральных показателей обмена веществ, может служить физиолого-биохимическим маркером состояния организма рыб и отражать процессы внутрипопуляционной дифференцировки и развития.
В настоящей работе у молоди кумжи (1+, 2+, 3+) из реки Орзега исследовали состав и содержание жирных кислот общих липидов, которые являются одними из компонентов метаболизма липидов, обеспечивающих процессы роста и развития рыб.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ Материалы
Отлов молоди кумжи разных возрастных групп (1+, 2+, 3+) проводили по окончании позднего весенне-летнего паводка, в середине июня (2016 год). Русло реки Орзега достаточно насыщено порогами и перекатами. Глубины изменяются в пределах 0,2–0,7 м, скорость течения – 0,5– 0,9 м/с. Сочетание небольшой глубины и разнообразного фракционного состава грунта (разноразмерные галька и валуны, глыбы) формирует в русле систему струй и протоков, что повышает турбулентность потока и благоприятно отражается на кормовой базе кумжи. Это необходимо как для успешного питания молоди кумжи, так и для ее маскировки от хищников.
Активное питание кумжи начинается при температуре воды 13,5 °С. Молодь кумжи питается преимущественно реофильными донными беспозвоночными, а также воздушными и наземными насекомыми. В отличие от лосося, кумжа предпочитает более мелкие ручьи и притоки с быстрым течением и наличием укрытий (камней, коряг, ям) и обладает более высокими физическими возможностями [11]. Молодь (1+, 2+, 3+) кумжи из р. Орзега имеет сравнительно высокие размерно-весовые характеристики.
Для вылова рыб использовали аппарат элек-тролова (Fa-2) норвежского производства. После отлова мальков выдерживали в течение суток в русловых садках для снятия эффекта воздействия электрического поля.
Биохимические методы исследования
Индивидуальные пробы молоди рыб гомо-генезировали в небольшом количестве этилового спирта (96 %), затем фиксировали смесью хлороформ:метанол (2:1) и хранили при температуре +4 °С до анализа. Липиды экстрагировали и очищали по методу Фолча [16], концентрировали досуха с помощью роторно-вакуумной установки. Затем проводили метанолиз жирных кислот общих липидов [8]. После метанолиза жирные кислоты в виде метиловых эфиров разделяли и идентифицировали методом газожидкостной хроматографии с применением хроматографа «Кристалл 5000.2» (ЗАО «ХРОМАТЭК», Йошкар-Ола, Россия). В качестве внутреннего стандарта использовали бегеновую кислоту (22:0) (Sigma Aldrich, USA), обработку хроматограмм проводили с помощью компьютерной программы обработки хроматограмм «Хроматэк Аналитик» (ЗАО «ХРОМАТЭК», Йошкар-Ола, Россия). Жирнокислотный статус молоди кумжи оценивали индивидуально по содержанию отдельных жирных кислот и их соотношениям.
Результаты проведенных экспериментов были обработаны с применением общепринятых методов вариационной статистики [2] с использованием компьютерных программ Excel и Stadia.
Работа проведена с использованием научного оборудования центра коллективного пользования «Комплексные фундаментальные и прикладные исследования особенностей функционирования живых систем в условиях Севера» (ЦКП ИБ КарНЦ РАН).
РЕЗУЛЬТАТЫ
В общих липидах молоди кумжи возраста 1+, 2+ и смолтах 3+ обнаружено до 50 жирных кислот (ЖК), включая минорные (таблица).
Показано высокое содержание полиненасы-щенных ЖК (ПНЖК) (в пределах 39,96–43,33 % от суммы ЖК), среди которых доминируют ПНЖК n-3 семейства (21,57–25,90 % от суммы ЖК), в частности 22:6n-3, 20:5n-3 и 18:3n-3 кислоты. Уровень ПНЖК n-6 семейства у молоди был в пределах 13,74–17,39 % от суммы ЖК, с более высокой долей 18:2n-6 (от 7,91 до 10,24 % от суммы ЖК), а также 20:4n-6 (3,63–3,83 % от суммы ЖК). Установлены различия в содержании эссенциальных линолевой 18:2n-6 и линоленовой 18:3n-3 кислот, содержание которых повышалось с возрастом молоди (от 7,91 до 10, 24 % и от 4,75 до 6,48 % от суммы соответственно), причем доля первой из них была выше во всех возрастных группах рыб. Все изменения достоверны. При этом показатель соотношения эссенциальных 18:3n-3/18:2n-6 кислот в процессе роста молоди достоверно не изменялся (0,60–0,64).
У молоди всех возрастных групп установлена более низкая концентрация длинноцепочечных ПНЖК арахидоновой 20:4n-6 (3,63–3,94) и эйко-запентаеновой 20:5n-3 (3,61–4,75) по сравнению с их метаболическими предшественниками 18:2n-6 (7,91–10,24) и 18:3n-3 (4,75–6,48) кислотами соответственно. При этом в процессе роста молоди уровень 20:4n-6 кислоты и 22:6n-3 не изменялся, а уровень 20:5n-3 снизился у смолтов. Помимо ПНЖК в общих липидах молоди кумжи высока доля мононенасыщенных ЖК (МНЖК) (29,49–31,35 % от суммы ЖК), в которых доминирует олеиновая 18:1n-9 кислота (16,47–19,53 % от суммы ЖК) с достоверно повышенным уровнем у смолтов 3+. В метаболизме насыщенных ЖК (НЖК), уровень которых у молоди кумжи был в пределах 25,41–31,83 % от суммы ЖК, ключевая роль принадлежит пальмитиновой 16:0 и стеариновой 18:0 кислотам (в пределах 14,95–19,69 и 5,69–7,74 % от суммы ЖК соответственно). При этом содержание НЖК, в том числе 16:0 и 18:0 кислот, было выше у пестряток 1+, с возрастом их доля достоверно уменьшалась. Интенсивность обмена липидов, определяемая по соотношению концентраций 16:0/18:1n-9, достоверно снижалась с возрастом молоди.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
Состав и содержание как ПНЖК, так и МНЖК в липидах рыб в значительной степени определя-
|
Жирнокислотный состав (% суммы Ж К) разновозрастной (1 +; 2 +; 3 + ) кумжи из р. Орзега. Сбор проб: 29.06.2016 |
|||
|
Показатель |
Возраст |
||
|
1+ |
2+ |
3+ |
|
|
n |
5 |
9 |
5 |
|
Длина, см |
7,75 ± 0,45 |
11,47 ± 0,16* |
13,86 ± 0,24*л |
|
Вес, г |
4,06 ± 0,53 |
14,57 ± 0,69* |
27,50 ± 1,60*л |
|
14:00 |
1,35 ± 0,17 |
1,75 ± 0,16 |
1,62 ± 0,13 |
|
16:00 |
19,69 ± 0,69 |
15,42 ± 0,18* |
14,95 ± 0,36* |
|
18:00 |
7,74 ± 0,56 |
6,02 ± 0,04* |
5,69 ± 0,08*л |
|
20:00 |
1,28 ± 0,14 |
2,28 ± 0,22 |
1,91 ± 0,19 |
|
£ НЖК |
31,83 ± 1,79 |
26,90 ± 0,25* |
25,41 ± 0,27*л |
|
14:1(n-7) |
1,10 ± 0,25 |
1,14 ± 0,12 |
0,77 ± 0,12 |
|
16:1(n-9) |
0,73 ± 0,05 |
0,59 ± 0,01* |
0,60 ± 0,01* |
|
16:1(n-7) |
5,47 ± 0,84 |
5,51 ± 0,18 |
5,12 ± 0,41 |
|
17:1(n-7) |
0,23 ± 0,02 |
0,25 ± 0,03 |
0,20 ± 0,04 |
|
18:1(n-9) |
17,18 ± 0,55 |
16,47 ± 0,26 |
19,53 ± 0,52л |
|
18:1(n-7) |
4,71 ± 0,57 |
3,87 ± 0,16 |
3,39 ± 0,25 |
|
18:1(n-5) |
0,20 ± 0,03 |
0,17 ± 0,01 |
0,14 ± 0,02 |
|
20:1(n-9) |
0,37 ± 0,00 |
0,38 ± 0,02 |
0,50 ± 0,03л |
|
£ МНЖК |
31,05 ± 2,43 |
29,49 ± 0,26 |
31,35 ± 1,15 |
|
18:2(n-6) |
7,91 ± 0,37 |
9,21 ± 0,13* |
10,24 ± 0,51*л |
|
20:4(n-6) |
3,63 ± 0,75 |
3,94 ± 0,07 |
3,83 ± 0,23 |
|
£ (n-6) ПНЖК |
13,74 ± 0,55 |
15,88 ± 0,10* |
17,39 ± 0,41*л |
|
18:3(n-3) |
4,75 ± 0,07 |
5,85 ± 0,18* |
6,48 ± 0,19*л |
|
18:4(n-3) |
0,80 ± 0,05 |
1,08 ± 0,08 |
0,85 ± 0,05 |
|
20:4(n-3) |
0,50 ± 0,04 |
0,57 ± 0,03 |
0,54 ± 0,06 |
|
20:5(n-3) |
4,11 ± 0,83 |
4,75 ± 0,11 |
3,61 ± 0,30л |
|
22:5(n-3) |
1,22 ± 0,27 |
1,44 ± 0,05 |
1,15 ± 0,09л |
|
22:6(n-3) |
9,19 ± 2,78 |
11,13 ± 0,34 |
10,26 ± 1,07 |
|
£ (n-3) ПНЖК |
21,57 ± 3,92 |
25,90 ± 0,36 |
24,18 ± 1,31 |
|
£ ПНЖК |
39,96 ± 4,26 |
43,33 ± 0,40* |
42,95 ± 1,28 |
|
16:0/18:1(n-9) |
1,15 ± 0,00 |
0,94 ± 0,02* |
0,77 ± 0,03*л |
|
18:3(n-3)/18:2(n-6) |
0,60 ± 0,05 |
0,64 ± 0,02 |
0,64 ± 0,02 |
|
^НЖК/^ПНЖК |
0,90 ± 0,21 |
0,59 ± 0,02* |
0,62 ± 0,02* |
|
20:4(n-6)/18:2(n-6) |
0,47 ± 0,16 |
0,38 ± 0,03 |
0,43 ± 0,02 |
|
22:6(n-3)/ 18:3(n-3) |
1,92 ± 0,79 |
1,59 ± 0,13 |
1,92 ± 0,14 |
Примечание. Значения представлены в виде: M ± m. Условные обозначения: n - число проб, НЖК - насыщенные жирные кислоты, МНЖК - мононенасыщенные жирные кислоты, ПНЖК - полиненасыщенные жирные кислоты; * - различия от 1+ достоверны (р < 0,05; ANOVA). Л - различия от 2+ достоверны (р < 0,05; ANOVA). В пробах также содержалось < 1 % жирных кислот: 12:0,15:00; 17:00; 24:0,14:1(n-9), 15:1(n-9), 16:1(n-5), 20:1(n-11), 20:1(n-7), 14:2(n-9), 15:2(n-9), 16:2(n-9), 18:2(n-9), 14:2(n-7), 14:2(n-6), 16:2(n-6), 18:3(n-6), 20:2(n-6), 20:3(n-6), 22:3(n-6), 22:4(n-6), 22:5(n-6), 16:4(n-4), 18:2(n-4), 18:3(n-4), 16:2(n-3), 16:3(n-3), 16:4(n-3),18:2(n-3), 20:3(n-3).
ется рационом питания, а также способностью организма модифицировать их применительно к условиям существования. Высокое содержание этих жирных кислот в липидах молоди кумжи указывает на их особую функциональную роль в организме. Докозагексаеновая 22:6n-3 кислота, которая преобладает среди ПНЖК молоди кумжи, выполняет существенную роль в регуляции активности нервных клеток, развитии нервной системы у молоди, в функционировании зрительной системы у рыб, при ее дефиците наблюда- ются аномалии в поведенческих реакциях [13], [20]. Острота зрения и соответствующие поведенческие реакции играют ведущую роль у молоди рыб, питающихся сносимыми объектами в толще воды, и позволяют экономно расходовать энергию при питании. Большинство речных рыб, в том числе кумжа, обладающих реореакцией, имеют хорошо развитую оптомоторную (зрительнодвигательную) реакцию [9].
Повышение уровня эссенциальных 18:3n-3 и 18:2n-6 кислот с возрастом у молоди кумжи пря- мо коррелирует с ростом содержания запасных липидов (триацилглицеринов (ТАГ) и эфиров холестерина (ЭХС)), что было установлено нами ранее [4], и свидетельствует о включении их в данный класс липидов. В процессе роста молоди их пищевой спектр расширяется, увеличиваются размеры кормовых объектов [9], что отражается на повышении в организме рыб запасных липидов, и в том числе жирных кислот. У молоди всех возрастных групп доля 18:2n-6 ЖК была выше, чем 18:3n-3 ЖК.
Ранее в наших исследованиях у молоди кумжи из рек Кривой ручей, Ольховка и Индера (бассейн Белого моря) также был установлен более высокий уровень 18:2n-6 ЖК по сравнению с 18:3n-3 ЖК, и с возрастом их содержание повышалось [4]. Физиологически значимым является не столько количество этих эссенциальных кислот, сколько их оптимальное соотношение 18:3n-3/18:2n-6, в связи с существованием конкурентных взаимоотношений в процессе их метаболизма [17], [23]. Следует отметить, что этот показатель в процессе роста молоди жилой формы кумжи из р. Орзега достоверно не изменялся (0,60-0,64) в отличие от такового у проходной формы кумжи из р. Кривой ручей (0,47-0,30) [4]. В липидах макрозообентоса (смешанные виды) из реки Ор-зега, который является объектом питания молоди кумжи, этот показатель составлял 0,77 [4]. Разновозрастная молодь кумжи (1+, 2+, смолты 3+) из р. Орзега также достоверно не различалась показателями конвертации 18:3n-3 и 18:2n-6 кислот в более длинноцепочечные ПНЖК (22:6n-3 и 20:4n-6 ЖК соответственно), которые определяют жирнокислотный состав липидов морского типа и выражаются коэффициентами соотношений 22:6n-3/18:3n-3 и 20:4n-6/18:2n-6 соответственно [20]. Полученный результат может быть одним из доказательств, свидетельствующих о принадлежности кумжи из реки Орзега к жилой форме.
Проведенные ранее исследования молоди кумжи (0+, 1+, 2+, 3+, 4+) из разных рек бассейна Белого моря (р. Ольховка, р. Индера и р. Кривой ручей) установили снижение с возрастом интенсивности метаболических превращений эссенциальных 18:2n-6 и 18:3n-3 ЖК в более длинноцепочечные ПНЖК, что свидетельствует о снижении активности десатураз при подготовке к морской среде обитания [4]. Для морских рыб характерна низкая активность десатураз, играющих ключевую роль при конвертации этих кислот в более длинноцепочечные ПНЖК, так как в условиях морской среды обитания в пищевых объектах достаточно этих кислот [12], [19].
Олеиновая 18:1n-9 кислота играет важную роль как энергетический источник, необходимый для роста и развития молоди, и особенно при двигательной активности в поисках пищи. Повышение ее уровня коррелирует с ростом запасных ТАГ и ЭХС у пестряток 2+ и смолтов 3+, что может указывать на включение 18:1n-9 кислоты в эти липиды. В исследовании отдельных видов зообентоса (поденок, мошек, ручейников в р. Орзега), которые доминируют в питании кумжи, содержание 18:1n-9 кислоты составляло значительную долю (от 11,74 до 18,47 % от суммы ЖК) с более высоким показателем у ручейников. Высокое содержание НЖК, в основном за счет 16:0, у молоди коррелирует со значительной их долей у вышеназванных видов зообентоса (от 28,91 до 49,66 % от суммы ЖК). С возрастом у молоди кумжи происходит снижение содержания НЖК, в том числе 16:0 и 18:0 кислот, что было установлено нами ранее для пестряток 3+ кумжи из р. Кривой ручей [4]. Причем значительная часть НЖК может элонгироваться и десатурироваться до более длинноцепочечных ЖК, таких как олеиновая 18:1(n-9) кислота, уровень которой увеличился у молоди 3+. При этом особую роль играет оптимальное соотношение НЖК и ПНЖК, влияющее на микровязкость биомембран, обеспечивающее активность фосфолипидов и их взаимодействие с мембранными белками [14], [21]. Нами установлено, что с возрастом молоди кумжи снижается показатель НЖК/ПНЖК (от 0,90 до 0,62), а также индекс интенсивности обмена липидов, определяемый по соотношению концентраций 16:0/18:1n-9 ЖК [1]. Различная для каждой возрастной группы мальков интенсивность обмена липидов (в частности накопление и расходование жирных кислот) формируется факторами внешней среды (температура, фотопериод, массовость и видовое разнообразие, тип грунта), обусловленными также, в определенных пределах, возрастными факторами и генетическими особенностями. Известно, что разновозрастная молодь лососевых рыб выбирает различные участки обитания в одном биотопе [10], [15], что определяет видовую специфику кормовых объектов, их массовость, доступность и влияет на степень интенсивности метаболизма жирных кислот в разные возрастные периоды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе роста и развития молоди кумжи (1+, 2+, 3+) в р. Орзега регуляция жизненных функций обеспечивается, наряду с другими механизмами, изменением уровня и соотношений ЖК-компонентов, которые связаны с видовой спецификой кормовых объектов, их количественными характеристиками, что влияет на степень интенсивности метаболических процессов в разные возрастные периоды жизни рыб.
В настоящем исследовании у разновозрастной молоди кумжи не выявлено достоверных различий по степени активности процессов элонгации и десатурации эссенциальных жирных кислот 22:6n-3/18:3n-3 и 20:4n-6/18:2n-6, что может быть одним из доказательств ее принадлежности к жилой форме в р. Орзега.
Полученные данные дополняют представление о важности использования коэффициентов соотношений 22:6n-3/18:3n-3 и 20:4n-6/18:2n-6 в качестве индикаторов физиологического состояния и, возможно, одного из генетических маркеров у молоди лососевых в период ее смол-тификации (или в ее отсутствие). Образование жилой (речной) формы кумжи в р. Орзега является одной из жизненных стратегий, имеющих адаптивное значение для формирования сложной субпопуляционной структуры.
БЛАГОДАРНОСТИ
Авторы работы выражают глубокую благодарность сотрудникам лаборатории экологии рыб и водных беспозвоночных ИБ КарНЦ РАН за сбор материала – д. б. н., проф. А. Е. Веселову, а также к. б. н. Д. А. Ефремову, М. А. Ручьеву.
*Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 14-24-00102 «Лососевые рыбы Северо-Запада России: эколого-биохимические механизмы раннего развития».
Список литературы Содержание липидных компонентов у молоди кумжи Salmo trutta L. из реки Орзега (бассейн Онежского озера). I. Динамика жирнокислотного состава в процессе роста и развития молоди (1+, 2+, 3+) кумжи
- Архипов А. В. Изменение обмена липидов у кур в онтогенезе//Сельскохозяйственная биология. 1980. Т. 15. № 5. С. 756-761.
- Ивантер Э. В., Коросов А. В. Введение в количественную биологию: Учеб. пособие. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2011. 302 с.
- Махро в А. А. Кумжа (Salmo trutta L.) на северо-восточном краю ареала//Принципы экологии. 2013. Т. 2. № 1. С. 5-20.
- Мурзина С. А., Нефедова З. А., Пеккоева С. Н., Веселов А. Е., Барышев И. А., Рипатти П. О., Немова Н. Н. Содержание жирных кислот в кормовых объектах молоди лососевых рыб из рек бассейна Онежского озера//Биология внутренних вод. Неопубл. данные.
- Немова Н. Н., Мещерякова О. В., Чурова М. В. Показатели энергетического метаболизма в процессах роста и развития лососевых рыб Salmonidae//Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2015. № 8 (153). С. 7-13.
- Нефедова З. А., Мурзина С. А., Веселов А. Е., Пеккоева С. Н., Руоколайнен Т. Р., Ручьев М. А., Немова Н. Н. Биохимическая разнокачественность по липидному статусу молоди кумжи Salmo trutta L., обитающей в реках бассейна Белого моря//Известия РАН. Сер. Биологическая. 2017. № 1. С. 57-62.
- Павлов Д. С., Савваитова К. А. К проблеме соотношения анадромии и резидентности у лососевых рыб (Salmonidae)//Вопросы ихтиологии. 2008. Т. 48. № 6. С. 810-824.
- Цыганов Э. П. Метод прямого метилирования липидов после ТСХ без элюирования с силикагелем//Лабораторное дело. 1971. № 8. С. 490-493.
- Шустов Ю. А. Экологические аспекты поведения молоди лососевых рыб в речных условиях. СПб.: Наука, 1995. 161 с.
- Шустов Ю. А., Барышев И. А., Белякова Е. И. Особенности питания атлантического лосося Salmo salar L. в субарктической реке Варзуга и ее малых притоках (Кольский полуостров)//Биология внутренних вод. 2012. № 3. C. 66-70.
- Шустов Ю. А., Веселов А. Е. Питание и рост молоди озерной кумжи Salmo trutta L. morpha lacustris в водоемах национального парка «Паанаярви»//Экология. Экспериментальная генетика и физиология. Труды КарНЦ РАН. 2007. Вып. 11. C. 142-146.
- Bell J. G., Henderson R. J., Tocher D. R., McGhee F., Dick J. R., Porter A., Smullen R. P., Sargent J. R. Substituting fish oil with crude palm oil in the diet of Atlantic salmon (Salmo salar) affects muscle fatty acid composition and hepatic fatty acid metabolism//J. Nutr. 2002. № 132. P. 222-230.
- Brett M., Muller-Navarra D. The role of highly unsaturated fatty acids in aquatic food-web processes//Freshw. Biol. 1997. Vol. 38. P. 483-499.
- Cejas J. R., Almansa E., Jerez S., Bolanos A., Felipe B., Lorenzo A. Changes in lipid class and fatty acid composition during development in white seabream (Diplodus sargus) eggs and larvae//Compar. Biochem. Physiol. B. 2004. Vol. 139. № 2. P. 209-216.
- Fausch K. D. Experimental analysis of salmonid microhabitat selection in streams//Develop. Ecol. Perspect. 21st Cent.: Abstr. 5th Intern. Congr. Ecol. Yokohama. 1990. P. 35.
- Folch J., Lees M., Sloan-Stanley G. H. A simple method for the isolation and purification of total lipids animal tissue (for brain, liver and muscle)//J. Biol. Chem. 1957. Vol. 226. P. 497-509.
- Lipids in Aquatic ecosystems/M. T. Arts, M. T. Brett, M. J. Kainz (eds.). Springer, 2009. 377 p.
- Murzina S. A., Nefedova Z. A., Veselov A. E., Ripatti P. O., Nemova N. N., Pavlov D. S. Changes in fatty acid composition during embryogenesis and in young age groups (0+) of Atlantic salmon Salmo salar L. The role of rheotactic behavior and lipid composition of fry in the formation of phenotypic groups of salmon in large Arctic rivers//Salmon: Biology, Ecological Impacts and Eco nomic importance/P. T. K. Woo, D. J. Noakes (eds.). N. Y: Nova Science Publishers, 2014. P. 47-67.
- Peng J. Y., Larondelle Y., Pham D., Ackman R. G., Pollin X. Polyunsaturated fatty acid profiles of whole body phospholipids and triacylglicerols in anadromous and landlocked Atlantic salmon (Salmo salar) fry//Comp. Biochem. Physiol. B. 2003. Vol. 134. P. 335-348.
- Tocher D. R. Metabolism and functions of lipids and fatty acids in teleost fish//Rew. Fish. Sci. 2003. Vol. 11. № 2. P. 107-184.
- Villalta M., Estevez A., Bransden M. P., Bell J. G. Effects of dietary eicosapentaenoic acid on growth, survival, pigmentation and fatty acid composition in Senegal sole (Solea senegalensis) larvae during the Artemia feeding period//Aquac. Nutr. 2008. Vol. 14 (4). P. 232-241.
- Waples R. T., Pess B., Pess G. Evolutionary history, habitat disturbance regimes, and anthropogenic changes: what do these mean for resilience of Pacific salmon populations?//Ecology and Society. 2009. Vol. 14(1): 3. 18 p.
- Youdim K. A., Martin A., Joseph J. A. Essential fatty acids and the brain: possible health implications//Int. J. Dev. Neurosci. 2000. Vol. 18. P. 383-399.