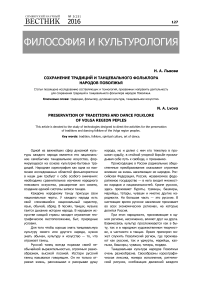Сохранение традиций и танцевального фольклора народов Поволжья
Автор: Львова Надежда Александровна
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 3 (25), 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена исследованию составляющих и технологий, призванных направить деятельность для сохранения традиций и танцевального фольклора народов Поволжья.
Традиции, фольклор, духовная культура, танцевальное искусство
Короткий адрес: https://sciup.org/14114369
IDR: 14114369
Текст научной статьи Сохранение традиций и танцевального фольклора народов Поволжья
Одной из важнейших сфер духовной культуры каждого народа является его национальное самобытное танцевальное искусство, формирующееся на основе культурно-бытовых традиций. Народная хореография как одна из наименее исследованных областей фольклористики в наши дни требует к себе особого внимания: необходимо сравнительное изучение народного плясового искусства, расширение зон охвата, создание единой системы записи танцев.
Каждому народному танцу присущи свои национальные черты. У каждого народа есть свой сложившийся национальный характер, язык, обычай, обряд. В песнях, танцах, музыке таится дыхание истории народа. В народном искусстве каждой страны находит отражение географическое местоположение, быт, природные условия.
Для того чтобы хорошо знать танцевальную культуру своего или другого народа, нужно знать обычаи, культуру и искусство — то, что отражает танец.
Русский танец всегда поражал своей необычайной выразительностью, огромным разнообразием, высокой поэзией. Исстари русский танец назывался говорящим. Он не только отражал жизнь, рассказывал и раскрывал душу народа, но и делил с ним его тяжелую в прошлом судьбу, в стойкой упорной борьбе прокладывал себе путь к свободе, к признанию.
Происходящие в России радикальные общественные преобразования оказывают огромное влияние на жизнь населяющих ее народов. Российская Федерация, Россия, независимое федеративное государство — в него входит множество народов и национальностей. Кроме русских, здесь проживают буряты, тувинцы, башкиры, марийцы, татары, чуваши и многие другие народности. Но большая часть — это русские. В настоящее время русское население проживает во всех экономических регионах, на которые делится Россия.
При этом народности, проживающие в одном регионе, несомненно, влияют друг на друга. Взаимосвязь культур прослеживается как в быту, так и в народном художественном творчестве, в частности в танцах. Ярким примером может служить Поволжский регион, где проживают как русские, так и удмурты, марийцы, калмыки, башкиры, чуваши, татары, мордва.
Танцевальная культура народов Поволжья очень разнообразна. Своеобразны хореографическая лексика, манера исполнения, ритмический рисунок, комбинация движений каждого народного танца. В то же время при наличии самобытных, сугубо национальных характеристик в танцах поволжских народов много общего, интернационального. На территории Поволжья проживает много разных народов, но хотелось бы остановиться на особенностях хореографии татар, чувашей и мордвы.
Татарский танец
В современных татарских танцах очень ярки национальные особенности, и это объясняется прежде всего органическим использованием рисунков старинного танца. Обогащение традиционной основы элементами нового особенно заметно и привлекательно в танцах «Яна сичез-ле» («Новая восьмерка»), «Тучерек уен» («Круговой танец»), «Йолдызым» («Звездочка»), «Кул сугып уйнад» (парный танец с прихлопыванием в ладоши), «Дулкын» («Волна»), «Жебе-гэн» («Ротозей»), «Яулык салым» («Игра с платком»), «Су буенда» («У реки»). Это массовые танцы. Напоминая русские кадрили, они танцуются очень просто, благодаря чему в них принимают участие почти все присутствующие. Ряд танцев примечателен хореографической поэтизацией образов известных татарских народных песен. Таковы «Райхан», «Зэнгэр» и «Гэл-лэрем», интерпретирующие стихотворение Мусы Джалиля и нередко исполняемые в сопровождении трехголосного женского хора.
Распространены в республике театрализованные представления, среди которых одно из видных мест занимает татарская свадьба. В ней большую роль играют массовые танцы («Айлан-байлан», «Тугарака цен» и др.), в которых сольные мужские, женские и парные танцы — среди них обязательный танец жениха и невесты — сочетаются с хороводно-игровыми. Татарские плясовые песни носят жизнерадостный характер. Они подчеркивают танцевальные и игровые функции хороводов, отличаются задорным ритмом, прибаутками.
Полны грации лирические женские танцы «Оч дуе» («Три подружки»), «Язгы мон» («Весенние голоса») и игровой танец «Алтын бодай» («Золотая пшеница»).
Женский танец — всегда стремительный, легкий, воздушный. В то же время движения рук ограничены — нет движения кистями. Исполняя припадание, девушка может закрываться от юноши, выводя обе руки вправо или влево, во второй позиции, ладони открыты от себя. Часто, танцуя, девушка придерживает за концы фартук или прикрывается от юноши платком. Танцевали девушки обычно на посиделках.
Приходили парни, затевались игры и танцы. Часто танцы исполнялись под народный инструмент кубыз. Танцует девушка мягко, застенчиво, со скрытым кокетством, движения ее неширокие, скользящие, без больших прыжков.
Мужской танец — активный и мужественный. Движения танцоров чеканные, изобилуют легкими подскоками и акцентированными притопами. Танцуя с девушкой, юноша держит себя уверенно, гордо, напористо. В конце музыкальной фразы обычно исполняется легкий притоп с небольшим наклоном корпуса. Распространен сольный танец «Аерым бию». Сущность его — в своеобразной импровизации, цель которой — поразить зрителей мастерством и фантазией.
Первый участник пускается в пляс по кругу. Заканчивая, он выбирает другого любителя и мастера поплясать. Приближаясь к нему, исполняет концовку в полупоклоне — это и приветствие, и вызов. Приведем оценку известной балерины В. В. Кригер: «Танцы татар вообще необыкновенно свежи, колоритны и очень своеобразны. Когда мужчины танцуют в паре с девушками, создается очень лирический сюжет, бодрый и вместе с тем овеянный нежностью. Очень характерны у женщин их удивительные движения, когда они закрываются платком. Проделывается это с необыкновенной грацией и кокетством. А какая пластичность в повороте головы, какой сдержанный задор в глазах, смотрящих на кавалера!» [8].
Есть еще целый ряд стилистических особенностей татарского танца. Живой, исполненный внутреннего темперамента, элементов игры, шутки, желания перехитрить партнера, танец сопровождается игрой на гармони-двухрядке, кубызе, тальян-гармони, скрипке.
Одним из коллективов, сохраняющим фольклорное наследие Татарстана, является ансамбль танца «Казань», созданный в целях поддержки и развития профессионального танцевального искусства в городе Казань, широкой пропаганды фольклорных танцев Татарстана и достижений современной хореографии.
Балетмейстер ансамбля Фанис Исмагилов считает делом первой необходимости работу по сохранению народных традиций. Народный фольклор Татарстана — обильный материал для размышлений и обобщений балетмейстерской работы. Используя его, можно создавать оригинальные композиции.
Источники содержания выразительных средств могут быть различны: они, как и в фольклоре других народов Поволжья, возникают в окружающей среде, питаются идеалами, потребностями и интересами, которыми живет народ. Основными источниками являются: трудовая деятельность, взаимоотношения в труде, отношение к труду и его продуктам; природноклиматические условия и явления природы; жизненный уклад народа, его этика и мораль. Так возникли фольклорные зарисовки «Черем-шанские вечера», «Лапти», «Косари», «Сабантуй» и некоторые другие.
Все вышеперечисленные номера поставлены в виде оживших картинок, отображающих: одни — трудовые процессы, другие — национальные праздники, третьи — гулянье молодежи в давние времена. Через подобные постановки зритель имеет возможность знакомства с богатой культурой татарского народа.
Интересно и музыкальное сопровождение этих номеров. Как правило, для этого используются народные наигрыши, мелодии, грамотно обработанные и интерпретированные музыкантами и композиторами. Музыка выходит живой, яркой, задорной.
Стиль костюмов также полностью соответствует фольклорному решению композиций, они становятся дополнительной иллюстрацией — интересной и правдивой.
Однако не стоит забывать, что даже подобные фольклорные постановки носят сценическую форму, то есть подчиняются всем законам сцены. Это отражается в танцевальной лексике — она адаптирована под высокое исполнительское мастерство, в изменении каких-либо фактов, в облегчении сценического танцевального костюма.
Так, в танце «Лапти» перед нами оживает сюжет старинных молодежных забав о том, как младшая сестра поменялась со старшей сестрой лаптями и обе пустились в пляс. Отсюда юмор и задор, своеобразная танцевальная лексика для обеих героинь. Одна в танце показывает неудобства от того, что лапти жмут, вторая старается удержать на ногах обувь слишком большого размера.
В танце «Косари» изображается процесс сенокоса, с песнями, танцами, забавами, как в далекие времена. В номере активно используется атрибутика — деревянные жерди в замену настоящих кос. Они, конечно, облегчены для удобства в использовании. Танец насыщен сложными техническими элементами и трюками, исполняется мужским составом ансамбля.
Так в танцевальных номерах оживает история жизни татарского народа, отображаются трудовые процессы, национальные игры и забавы.
Чувашский танец
Чувашский танец самобытен и мало похож на танцы других народов Поволжья, хотя в нем все же имеются общие черты с татарским и марийским танцами. Чувашский танец или пляска (по-чувашски «таша») почти всегда сопровождается хлопаньем в ладоши. Танцы просты по форме и развиваются по принципу варьирования и многократной повторности основного короткого наигрыша. Размер, как правило, двух-или четырехчетвертной. Все это подчеркивает, как и в вышивке, любовь чувашей к квадратной симметрии. Темповые отклонения внутри мелодии, а также сопоставление в одном танце контрастных по темпу эпизодов для чувашской народной хореографии не типичны.
Для сольных танцев характерно исполнение по принципу «все по порядку», когда последовательно танцует каждый участник хоровода или игрища. По сравнению с калмыцкими, татарскими и башкирскими танцами, воспроизведение трудовых движений и картинок быта в чувашском танце выражено менее ярко. Мужской танец отличается удалью, задором, темпераментом и быстротой движений. Женский танец — мягкий, плавный, пластичный. Во время танца женщина, скользя по полу, сводя то носки, то пятки, воспроизводит мелкие ажурные движения, напоминающие орнамент или вышивку. Парные танцы исполняются преимущественно женщинами.
Юркин И. Н. приводит описание оригинальной пляски, которая исполняется парами: «Одна из женщин или девиц, а то и обе враз, держа свои руки перед лицом, начинают ударять в ладоши. Когда по 2 или 3 раза ударят, угодивши в такт музыке, тогда начинается кружение: первая из пляшущих кружится от себя в правую сторону, а вторая — в левую, при этом пляшущие управляют ногами так, что во время кружения двигаются исключительно то на пятках, то на подошвах, но не поднимая с полу ног. Когда они, повернувшись вокруг себя, встретятся лицом к лицу, то кружение тем же порядком совершается в другую сторону… Сделав несколько кругов, эта пара меняется местами с другою, хотя бы и плясали одни женщины. При перемене мест мужчина переходит на место женщины, а женщина — на место мужчины, причем переходящие лица должны всегда целоваться; если кто-нибудь не исполнит этого, то музыканты моментально перестают играть и ждут, когда последуют крепкие поцелуи между пляшущими… Пляшущие немедленно останавливаются для поцелуя. И потом опять продолжают свою пляску, по окончании которой, встав опять рядом на свои места, поклонами благодарят музыкантов за хорошую игру».
Женский танец часто носит игровой характер. Исполняется живо, с огоньком. Девушки держатся прямо, двигаются плавно, мягко, пластично, руки часто переходят из одного положения в другое. Основной ход — припадание. При этом руки прижаты локтями к корпусу и переменно выводятся вперед-вверх и возвращаются назад. Характерные движения — «гармошка» и каблучный ход. Руки при этом параллельно переводятся справа налево, как бы опускаясь на клавиши фортепиано. Локти слегка прижаты к туловищу. Часто танец исполняется под песню. О плясках много поется в песнях:
Не пора ли поплясать,
Игры с плясками начать?
Сто рублей за нашу пляску,
За хоровод — тысяча.
Этот полушутливый куплет имеет вполне определенный смысл. Почему плясовая мелодия — сто рублей, а хоровод — тысяча? Да потому, что в хороводе есть игры, песни, пляски — все в тесном единстве. Чувашская поговорка гласит: «Татля пелмен сынна кеве кил-мен» — «Не умеющему плясать не угодили мелодией».
Чувашская девушка не выходила в круг без вышитого плясового платка — селке. Плясовой платок с его изящными узорами сочетался и с плавными движениями танца, и со своеобразными плясовыми мелодиями. Чем плавнее танцевала девушка, тем больше она нравилась зрителям. Выражение «пляшет, точно колышется» точно характеризует чувашский женский танец. С. М. Михайлов так описывал танец девушки и парня: «Холостяки по окончании своих танцев берут девиц поодиночке за руки и влекут в середину плясать, девица стыдится сначала, хочет вырваться от них, но безуспешно, молодые увлекают ее, и она, наконец, оказавшись на площадке, становится в позицию и, захватив рукава белой своей рубахи, протягивает руки, а потом, сделав раза три книксен, пойдет передвигать взад и вперед свои ножки в красивеньких лапотках, бодро смотря на молодцев, а руки вздергивая и опуская и делая быстрые обороты; когда же кончит пляску, делает вновь книксен, кланяясь свадебным головам, сидящим за особым столом на подушках и в шапках. Таким образом холостяки перебирают поочередно всех девиц, сколько бы их не было».
Основное движение чувашского мужского танца — тройной шаг, который напоминает па- дебаск и варьируется в различных районах Чувашии по-разному. Исполняется тройной ход на носок, на каблук с наклонами корпуса влево, вправо, назад. Руки могут открываться одновременно с ногой. Распространен шаг с подскоком, руки в это время находятся в положении накрест (вариант исполнения хода с дробью). Характерна переплетающаяся дорожка с левой и правой ноги. Она может исполняться на месте и в продвижении вперед. Присядка размашиста, исполняется по шестой позиции, руки накрест, подскоки с ударом.
Пляскам детей обучали с малолетства. Взрослые всячески поощряли стремление детей научиться танцевать. У чувашей существовал даже «таша челли» (плясовой ломоть) — ломоть в каравае, следующий за горбушей, который вручали старшие маленьким, обязательно приговаривая: «Это тебе для того, чтобы из тебя вышел искусный плясун». О плясках и танцах много поется: одни песни призывают молодежь плясать, в других содержится вызов партнера на танец, иные благодарят музыкантов за исполнение танцевальной мелодии, в некоторых встречается описание особенностей и деталей плясок. Судя по песням, плясали у чувашей и дети, и старики.
Для бытового танца характерно парное исполнение, независимо от того — мужчины это или женщины. Самый искусный танцор танцует со всеми присутствующими по очереди, приглашая хлопками и притопами. Характерен элемент вступления в пляску: ударив 2—3 раза в ладоши в такт музыке, танцующие делают кружение вокруг себя. С. М. Михайлов пишет о чувашских юношах: «Скажу, что здешние чувашские молодцы отлично пляшут и вприсядку, и казачка, выделывая удивительные изгибы».
Достойным представителем трудолюбивого, скромного древнего чувашского народа, активным пропагандистом высокого духовного мира своего народа, его вековых традиций и новых ярких достижений является Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. Все концертные программы коллектива отличаются органичным сочетанием подлинного фольклора и современного композиторского, хореографического и изобразительно-прикладного творчества.
Мордовский танец
Мордовский народ с древнейших времен с помощью танца пластически выражал многообразие чувств — мольбу, страх, скорбь, гнев, радость, нежность, торжество и веселье. Все это, как и желание подражать природе, повадкам животных и птиц, передавать трудовые движения земледельцев, охотников, сборщиков плодов и трав, формировало своеобразную «копилку» танцевальных элементов, порождаемых самой жизнью. Эти элементы, в свою очередь, развивая пластику тела и углубляя человеческую мысль о ней, складывались в определенную лексику танцевальных движений национального традиционного танца. Лексика служила и своеобразной пластической летописью, и формой передачи родовых традиций, и средством познания мира, и способом выявления разнообразных дарований.
С древнейших времен в культуре мордвы сохранились хороводы-гадания, пляски-заклинания, магические танцы, детские танцевальные игры, календарные плясовые действа, свадебные пляски, переплясы, образные и сюжетные танцы, а также пантомимы. Хореографическая лексика, манера исполнения, ритмический рисунок, комбинация движений, своеобразная пластика, наличие самобытных, сугубо национальных характеристик движений рук и ног присутствуют в них наряду с общим, интернациональным народов Поволжья и Приуралья.
Данные о мордовском танце дают материалы этнографических, этносоциологических, фольклорных, археологических экспедиций, проведенных в разные годы XIX—XX вв. Истоки и основы танцевальной пластики мордовской хореографии закладывались в обрядовых представлениях, которые вплетались в структуру религиозных и бытовых традиций народа.
У мордвы есть несколько видов хороводов. В одних разыгрываются сюжеты на производственные темы — исполнители изображают одновременно и работающих людей, и предметы их труда. Содержанием других является свободная фантазия на тему песен и показ характеров и поступков изображаемых персонажей.
Хоровод «Шунянь Анкань казтозо» («Холст Шуниной Анки») исполняется двумя группами. Одна (преимущественно из детей) располагалась в две шеренги и изображала ткацкий стан, вторая представляла орудия труда и самих ткачих. В основу хоровода положена песня.
На столкновении двух противоборствующих групп — мужчин и женщин — строились двухлинейные хороводы, наиболее распространенным из которых был «Амы парку парили». В его основе — хороводная песня свадебного репертуара. Мужская группа стремится заиметь нового члена семьи, женская не желает расставаться с ним даже за большой выкуп. Хоровод продолжается до тех пор, пока во второй группе не остается ни одного человека. Примером кругового хоровода может служить игровая песня «Маковица-головица». Хоровод водится вокруг разукрашенной разноцветными ленточками березки. Драматизированная игра происходит внутри круга.
Достоинство подобных хороводных произведений обнаруживается только в процессе многократного повторения. Сценарий хороводных игр является основой, дающей каждому исполнителю возможность по-своему «пофантазировать» вокруг предложенной темы. При исполнении партий в хороводе большое внимание обращалось на артистические способности участников, их импровизационное мастерство.
В весенних праздничных хороводах импровизировались сюжеты песен бытового, свадебного, мифологического плана, отличающиеся остротой интриги и конфликтными ситуациями. В этих случаях хоровод исполнял описательную часть песен, а певцы и певицы передавали реплики героев. Наиболее способные к импровизации участники игр в середине круга изображали действия персонажей. Подобный прием разыгрывания существует до сих пор.
Наибольшее распространение в Мордовии получил левженский танец, в основе которого молодежные игры и пляски села Левжа Рузаевского района Мордовской АССР. В мужском и женском танцах много общих движений. Женский танец очень подвижен, динамичен, часто игрового характера. Для него характерны подскоки, притопы, вращения, припадания с ударами. Переводы рук из позиции в позицию не столь часты, как в башкирском женском танце. Танец легкий, свободный, но не так стремителен, как татарский. Распространены парные танцы. Реже танцы исполняются в виде перепляса. Часто встречаются двойные и тройные притопы, бег с хлопками, мелкие переступания, бег с переменным наклоном корпуса влево и вправо. Вибрация корпусом отсутствует, прыжки и присядочные движения исполняются редко. Часто используется смена мест партнерами, повороты и переходы.
Можно говорить о том, что костюм с различными украшениями, как и пластика, имел разновозрастные (половозрастные) грани. Это явление, безусловно, влияло в определенном плане на движения женского национального танца, а во многом и мужского (прежде всего смешанного парного). Кроме того, праздничные костюмы мордвы-мокши и мордвы-эрзи отличались массивностью и громоздкостью, что повлияло на проявление общих черт в танцеваль- ной лексике групп (хотя существуют и различия в пластической динамике).
Эрзянский танец. Говоря о пластике и внешнем виде девушек-эрзянок, П. И. Мельников-Печерский отмечает изысканную одежду и походку, сравниваемую с поступью породистой лошади, которая держит голову прямо, не опуская глаз в землю, ступая сильно и ровно. «Катя, Катерька (то есть Катенька), матерька, щегольски одевается, ходит щегольски и важно. Ай, в саратовских чулках, в высокопятых башмаках, в шестиполосной узорчатой рубахе, с двенадцатью платками за поясом, как заря горит она в штофном платье... Софья Рязанова! Как облупленная липа — бело ее тело; как скатанный льняной холст — на ногах ее обувь; походка ее, как у детища лучшей лошади». А. А. Шахматов отмечал, что на красную горку «девки целые ночи водят с парнями хороводы: от вечерней до утренней зари раздаются по селу их громкие песни, то вдруг заиграют “дали-ли-ли-да-да”, и под эту песню и игру на рожке, на котором некоторые парни играют мастерски, девки идут плясать: хоровод образует продолговатый круг, в середину которого выходят две девушки, начинают потаптывать на месте и, медленно разводя руками, подергивая плечами и станом, переходят с места на место (меняются местами) — в этом и состоит вся пляска».
Фукс К. писал, что эрзянские женщины «высокого роста, плечисты и до старости ходят прямо; между ними встречаются с правильными и очень красивыми лицами. Из всех финских племен мордва есть народ самый здоровый и стройный». Им отмечена другая особенность — эрзянские девушки прекрасно владели не только мордовским, но и русским танцем. «Все это было заключено русскою пляскою. При сем отличалась своею красотою и грациозностью одна мордовка, из деревни Березовки». Пластика эрзянского танца сдержанна, степенна, скромна и изящна, в отличие от мокшанской.
Терминология народных танцевальных движений указывает на роль костюма и в современной мокша-эрзянской хореографии:
-
— « кштимс-топамс » (м.) — плясать-топать;
-
— « киштемс пель пильгсэ » (э.) — «плясать в полноги» — тихо приплясывать, переходить с одной ноги на другую;
-
— « модеме гагяня, гагакс » (м., э.) — «идти гусыней» — медленно покачивая бедрами из стороны в сторону (в пляске «гаганя»);
-
— « шалгамс ласькозь » (м.) — «ступать бегом» — мелко подпрыгивать с пятки на носок (плясовой шаг девушек);
— « чавомс-тапамс » (э., м.) — «бить-то-птать» — удары всей стопой по полу;
— « киштемс-тапамс » (э.) — «плясать-пу-тать» — выплясывать своеобразный рисунок.
Мокшанский танец. Как указывают исследователи XVIII—XIX вв., он отличается от эрзянского тем, что «многочисленные нагрудные, пышные набедренные украшения зрительно делали женскую фигуру устойчивой и тяжеловесной, словно вырастающей из земли, а толстые ноги, которые таковыми получались благодаря аккуратно обернутым белым обмоткам, напоминали стволы берез», отмечалось также, что мокшанки щеголяли своими ногами, одевая короткие рубахи, так как главными достоинствами женщины считались здоровье, сила, выносливость, а костюм подчеркивал эти свойства. В такой одежде движения девушек и молодых женщин были замедленными, грузными, лишенными легкости. Показательно в этом плане описание внешнего вида мокшанок, сделанное И. Н. Смирновым: «Мокша отличается большей массивностью сложения и вытекающей отсюда неповоротливостью. Не обладая грацией и изяществом движений, мокшанские девушки и женщины проявляют в походке, в говоре, в жестах самоуверенную силу и энергию. Прямой, несколько откинутый взад стан, тяжелые размашистые движения, громкая речь с несколько хрипловатыми нотами».
Все это отразилось в пластике женского танца, как отмечали М. Попов, А. А. Шахматов. Особенно интересна пляска в доме жениха по приезду свахи с невестой, когда «девушки и молодые женщины с поднятыми вверх руками (очевидно, символ дерева или обращение к солнцу) ходят по кругу, слегка пританцовывая и звеня пайгонат, а сваха выплясывает посреди круга, делая резкие движения, подпрыгивая, иногда переходя на дробь», — находим у М. Попова.
Шахматов А. А. пишет: «Девки одевалися в самые лучшие наряды, а красивые, ловкие и статные надевали старинную, особенно нарядную, одежду — ...вышитую мишурой, блестками и увешанную по плечам и рукавам маленькими бубенчиками и даже колокольчиками; звучно побрякивая ими в такт во время пляски, девка блистала в ярком пурпуровом наряде».
По этой причине мокшанский танец имеет ряд особенностей. П. С. Рыков выделяет мелкие движения ног и небольшой шаг, приводя песню мордвы Рязанской области: «Ходит баба, семенит, колокольчиками звенит». Руки мокшанок в танцевальных действах не могут свободно дви- гаться и подниматься выше уровня головы, так как тяжелые массивные украшения находятся не только на груди, но иногда покрывают и плечи, что вызывает определенные затруднения в переводе рук. Они принимают статичное вертикальное или горизонтальное положение в танце, неся в себе смысловую значимость в пластике мокшанской народной хореографии.
Время играло определенную роль в эволюции национального танца, который претерпевал ряд изменений в пластике. Танец менялся в образном строе, действенном воспроизведении и техническом исполнении. Рассмотренные данные показывают, как велико влияние особенностей костюма, украшений участниц обрядовых действ на пластику танцевальной культуры мордвы, поэтому упрощение современного костюма в наши дни разрушает «концепцию» выразительных средств, заложенных предками.
Следует отметить, что в последнее время прослеживается тенденция возрождения и сохранения национальных традиций народов Поволжья, это говорит о всё возрастающем интересе молодежи к памяти предков. Этот интерес выражается в создании новых фольклорных, народных коллективов песни и танца, проведении выставок, посвященных истории костюма и обычаев.
-
1. Колбер Ф., Эврар И. Арт-менеджмент — наука третьего тысячелетия // Арт-менеджер. 2002. № 3. С. 3—10.
-
2. Культурно-досуговая деятельность / под ред. А. Д. Жаркова, В. М. Чижикова. М., 1998.
-
3. Культурология. XX век : слов. СПб., 1997.
-
4. Менеджмент культуры / сост. Е. К. Пилилян. Владивосток : Изд-во ДВГТУ, 2007.
-
5. Митина И. Д., Мартыненко А. В., Моисеева М. В. Анализ и интерпретация произведений культуры в контексте культурологического подхода : учеб. пособие. Ульяновск : УлГУ, 2013. 362 с.
-
6. Митин С. Н., Митина Т. С. Учебное пособие по курсу лекций «Имиджелогия». Ульяновск : УлГУ, 2013.
-
7. Михеева Н. А., Галенская Л. Н. Менеджмент в социально-культурной сфере. СПб. : Изд-во Михайлова В. А., 2000.
-
8. Кригер В. В. О народных танцах // Народное творчество. 1937. № 2—3. С. 38—39.
Список литературы Сохранение традиций и танцевального фольклора народов Поволжья
- Колбер Ф., Эврар И. Арт-менеджмент -наука третьего тысячелетия//Арт-менеджер. 2002. № 3. С. 3-10.
- Культурно-досуговая деятельность/под ред. А. Д. Жаркова, В. М. Чижикова. М., 1998.
- Культурология. XX век: слов. СПб., 1997.
- Менеджмент культуры/сост. Е. К. Пилилян. Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2007.
- Митина И. Д., Мартыненко А. В., Моисеева М. В. Анализ и интерпретация произведений культуры в контексте культурологического подхода: учеб. пособие. Ульяновск: УлГУ, 2013. 362 с.
- Митин С. Н., Митина Т. С. Учебное пособие по курсу лекций «Имиджелогия». Ульяновск: УлГУ, 2013.
- Михеева Н. А,. Галенская Л. Н. Менеджмент в социально-культурной сфере. СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000.
- Кригер В. В. О народных танцах//Народное творчество. 1937. № 2-3. С. 38-39.