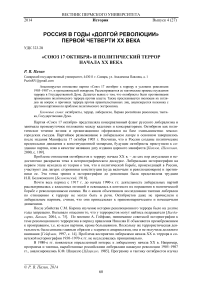«Союз 17 октября» и политический террор начала XX века
Автор: Пазин Р.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Россия в годы "Долгой революции" Первой четверти XX века
Статья в выпуске: 4 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
Анализируется отношение партии «Союз 17 октября» к террору в условиях революции 1905-1907 гг. и третьеиюньской монархии. Рассматриваются ее тактические приемы осуждения террора в Государственной Думе. Делается вывод о том, что октябристы были противниками применения политического террора против власти. Также прослеживается эволюция их взглядов на вопрос о причинах террора против правительственных лиц, анализируется полемика с другими партиями по проблеме политического экстремизма.
Октябристы, террор, либерализм, первая российская революция, такти, ка, государственная дума
Короткий адрес: https://sciup.org/147203590
IDR: 147203590 | УДК: 323.28
Текст научной статьи «Союз 17 октября» и политический террор начала XX века
Партия «Союз 17 октября» представляла консервативный фланг русского либерализма и занимала промежуточное положение между кадетами и консерваторами. Октябризм как политическое течение возник и организационно оформлялся на базе «меньшинства» земско-городских съездов. Партийное размежевание в либеральном лагере в основном завершилось после издания Манифеста 17 октября 1905 г. Посчитав, что в России созданы политические предпосылки движения к конституционной монархии, будущие октябристы приступили к созданию партии, взяв в качестве названия дату издания царского манифеста [ Павлов, Шелохаев, 2000, с. 109].
Проблема отношения октябристов к террору начала XX в. – до сих пор актуальная и недостаточно раскрытая тема в историографическом дискурсе. Либеральная историография на первом этапе исходила из теории о том, что в политической борьбе, происходящей в России, участвуют два лагеря: сторонники конституции (куда включали и революционеров) и противники ее. Эта точка зрения в историографии до революции была представлена трудами И.П. Белоконского [ Белоконский, 1910].
Почти весь период с 1917 г. до начала 1990-х гг. деятельность либеральных партий рассматривалась с классовых позиций и освещалась в контексте их поражения в политической борьбе с революционными силами. Ни о каком объективном исследовании тактики либералов по отношению к террору не могло быть и речи. Октябристов даже не причисляли к либеральным партиям, считая, что они принадлежат к правомонархическим и помещичьим движениям.
После убийства С.М. Кирова изучение истории революционного террора было на долгие годы запрещено. Вызывало опасения то, что у террористов могут найтись подражатели [ Багдасарян, Бакаев, 2004, с. 75]. По мнению А. Гейфман, невнимание советской историографии к теме революционного терроризма в период правления Николая II объясняется пренебрежением к проигравшим, т.е. ко всем партиям, кроме большевиков. Поскольку же террористическая деятельность была связана главным образом с эсерами и анархистами, она и не получила должного внимания [ Гейфман, 1997, с. 14]. Проблема восприятия либералами начала XX в. террора в советской историографии 1930–1970-х гг. не исследовалась принципиально.
В 1980-е гг. появляется определенный интерес к либерализму начала XX в. Например, программа и тактика, выработанные российскими либералами накануне революции 1905–1907 гг., анализировались К.Ф. Шацилло [ Шацилло, 1985]. Программу и тактику октябристов изучал
В.В. Шелохаев [ Шелохаев, 1987]. Но отношение «Союза 17 октября» к террору в советской историографии обстоятельно не исследовалось.
В начале 1990-х гг. наступает новый период в изучении либерализма, считающийся уже современной историографией. Важной чертой данного этапа стало расширение доступности источниковой базы. Отечественными исследователями проделана значительная работа по изучению темы, связанной с деятельностью октябристов: рассмотрены тактика, деятельность партии и их отношения с политическими противниками, способы агитационной борьбы и пропаганды, предвыборные кампании в Думу. В арсенале исторической науки имеется также немало интересных работ, касающихся революционного радикализма в России, но историографической традиции изучения восприятия террора так и не сложилось. Более того, крупных монографий, освещающих отношение российских либералов начала XX в., в том числе октябристов, к террору, в историографии так и не появилось. Попытаться отчасти восполнить этот пробел и призвана данная статья.
Стоит отметить, что октябристы не скрывали своего неприятия революции. Импульсом к возникновению многих октябристских отделов было стремление «бороться со смутой». По подсчетам Д.Б. Павлова «из 29 местных отделов "Союза", так или иначе изложивших цель своего создания (в прокламациях, воззваниях, письмах в ЦК), 25 именно так формулировали свою главную задачу» [ Павлов, 1996, с. 5].
Уже на первом общем собрании «Союза 17 октября», происходившем в Санкт-Петербурге 4 декабря 1905 г., были определены задачи, которые должны были решать октябристы. Так, М.В. Красовский полагал, что октябристы «должны сплотиться против революции, потому что она надвигается». Звучали и призывы «бойкотировать революционные издания, не покупая их ради праздного любопытства, т.к. каждый пятачок идет на дело революции»1. Осуждались и все преступления, связанные с революцией, – поджоги, грабежи, насилие, революционная пропаганда с призывом к вооруженному восстанию.
Члены «Союза 17 октября» никогда лично не участвовали в революционном терроре, осуждая его, но к правительственному террору относились намного более терпимо, нередко его поддерживали. В декабре 1905 г. октябристы оказывали помощь правительству в подавлении вооруженных восстаний: в ряде своих воззваний они резко осуждали действия революционеров как зачинщиков «братоубийства» и полностью оправдывали карательные акции правительства2. Но дальше публичных призывов дело не доходило. Финансовые и материальные средства правительству и монархистам партия не передавала. Октябристы были не готовы с оружием в руках содействовать «борьбе со смутой». Более того, Д.Н. Шипов, А.И. Гучков и М.А. Стахович после переговоров с С.Ю. Витте о вхождении в его кабинет отказались от министерских постов, сославшись на отсутствие необходимого опыта в сфере государственного управления. Действительная причина этого отказа, по мнению Д.Б. Павлова, «заключалась в широко распространенном в либеральных кругах личном недоверии к премьеру, а также неясности судьбы его кабинета в условиях нарастающей революции. Отпугивала либералов и перспектива соседствовать на министерских должностях с П.Н. Дурново» [ Павлов, 1996, с. 14].
К концу 1905 г. между октябристами и правительством наметилось расхождение. Октябристы считали, что правительство, с блеском, по их мнению, выполнившее задачу подавления «крамолы», совсем не спешило перейти к созыву Думы. Но все же большей проблемой для большинства их были теракты. Поэтому 29 января 1906 г. на общем собрании членов «Союза 17 октября» председатель ЦК партии барон Корф произнес речь, содержащую оценку происходящих событий и прерываемую несколько раз аплодисментами. В ней он заявил: «Положение нашего отечества в высшей степени тяжелое! …Господа! Мы будем бороться с противниками, с теми, которые спорят с нашими принципами, мы будем бороться, не уступая ни одного шага; мы объявляем нашим врагам борьбу беспощадную, врагам, которые хотят разрушить Россию насилиями; с такими врагами борьба будет вестись, не стесняясь никакими средствами»3. Но опять же дальше призывов дело не пошло.
Октябристам удалось провести в I Думу лишь 16 своих депутатов, и их голос в российском «парламенте» почти не был слышен [Христофоров, 2005, с. 433]. Не способствовало росту популярности партии и то обстоятельство, что октябристы оказались самой правой фракцией Думы. Тем не менее фракция в лице ее лидеров (П.А. Гейдена, М.А. Стаховича, Н.С. Вол- конского) выступила с осуждением политических убийств, совершаемых в стране. В связи с этим ЦК партии послал телеграмму представителям «Союза 17 октября», в которой говорилось, что только представители этой партии в Думе «возвысили свой голос против убийств, от кого бы они не исходили»4. Но из-за своей малочисленности октябристские депутаты серьезного влияния на ход работы I Думы оказать не смогли.
Начало новому политическому курсу октябристов положило интервью А.И. Гучкова по поводу августовского правительственного заявления, в котором лидер октябристов оправдывал роспуск I Думы и выразил полное согласие с политикой Столыпина. После одобрения Гучковым военно-полевых судов партия «Союз 17 октября» была официально зарегистрирована 10 октября 1906 г., т.е. легализована. С другой стороны, это привело к расколу в партии. Большинство все же поддержало Гучкова, которого 29 октября 1906 г. избрали председателем партии. Но, например, Д.Н. Шипов перешел в партию мирного обновления, которая признавала безусловную ценность личности и осуждала террор как правительственный, так и революционный. Таким образом, мирнообновленцы занимали по вопросу об отношении к террору промежуточную позицию между октябристами, выступавшими против революционного террора, и кадетами, осудившими только военно-полевые суды.
Во время избирательной кампании во II Государственную Думу 30 ноября 1906 г. состоялось расширенное заседание ЦК «Союза 17 октября», куда были приглашены представители как кадетов, так и консервативных партий. В докладе октябриста А.В. Бобрищева-Пушкина содержались обвинения партии кадетов в поддержки террористов, так как «Дума требовала амнистии, но не хотела осудить убийств». В ответ кадет Ф.Ф. Кокошкин обвинил октябристов в поддержке «антиконституционного правительства». Другой представитель кадетов, В.А. Маклаков, сжато выразил в своей речи причину отказа голосовать за осуждение политических убийств: «Мы думаем, что осудить политические убийства – это значит дать повод власти думать, что она права». Представитель Партии мирного обновления Е.Н. Трубецкой подверг критике как кадетов, так и октябристов, поскольку никто из них не осуждал одновременно сметную казнь и политические убийства5.
Во II Думу октябристам удалось провести 43 депутатов. Характер и направленность деятельности октябристов во II Думе мало отличались от их опыта годичной давности. Они по-прежнему настаивали на осуждении Думой революционного террора. На последних заседаниях II Думы октябристы вместе с консерваторами поддержали требование Столыпина о лишении депутатской неприкосновенности части членов социал-демократической фракции в связи с обвинением их в подготовке государственного переворота. Понимание в октябристской среде нашли и разгон II Думы, названный ими «прискорбной необходимостью», и новый избирательный закон, который давал им определенные надежды на действительный успех в очередной избирательной кампании.
Если характеризовать деятельность октябристов в I и II Государственной Думе, то стоит отметить, что они пытались добиться осуждения Думой «политических убийств», т.е. терактов со стороны революционных партий в отношении правительственных чиновников. Участие же членов партии «Союз 17 октября» в терроре – революционном или правительственном – не было отмечено. Они не оказывали содействия его осуществлению. Деньги и материальные ресурсы (квартиры и убежища, средств передвижения, оружие и т.д.) ни радикалам, ни правительству не предоставлялись. Вся поддержка власти сводилась лишь к вербальному одобрению в публичных выступлениях и в думской деятельности всех методов борьбы с революцией для успокоения страны.
Обсуждение отношения октябристов к террору продолжилось на втором всероссийском съезде «Союза 17 октября». Докладчиком был М.В. Красовский, который остановился «на разросшихся за последнее время до невероятного количества террористических актах». По его мнению, «необходимо принять самые решительные меры против этой развивающейся политической преступности»: поскольку «правительство одно не в силах справиться с этим злом, то общество должно оказать свое содействие». Путь содействия для оратора – «когда в общество проникнет сознание, что все эти акты, прикрывающиеся красивым политическим флагом, суть просто убийства и грабежи, когда этот факт будет ясен для всех – тогда лишь в обществе будет опрокинут тот иезуитский лозунг "цель оправдывает средства", который для многих теперь служит как бы оправданием этих убийств»6. Таким образом, первым шагом съезда «Союза 17 октября» стало вынесение порицания политическим убийствам и грабежам, но осуждение терактов было однобоким – деятельность правительства по подавлению революции словесно всячески одобрялась.
Третьеиюньский государственный переворот заставил октябристское руководство продолжать свою тактику. По утверждению В.В. Шелохаева, при оценке акта 3 июня 1907 г. октябристы представляли ситуацию таким образом, что главным виновником потрясения «молодого правового строя» стало не правительство Столыпина, а революционеры, продолжавшие и после 17 октября 1905 г. вести «бессмысленную братоубийственную войну». Исходя из своей модели государственного устройства России, они считали, что монарх, сохранивший и после 17 октября «свободную волю» и «исключительные прерогативы», был вправе «в интересах государства и нации» пойти на изменение избирательного закона [ Шелохаев, 1991, с. 43–44].
Новый избирательный закон предоставил октябристам возможность занять руководящее положение в III Думе и решать коренные вопросы российской действительности. В III Думе октябристам удалось сформировать мощную фракцию из 154 депутатов, т.е. на 112 человек больше, чем во II Думе [ Павлов, Шелохаев, 2000, с. 119].
При реализации своей думской программы октябристы главную ставку делали на правительство Столыпина, с которым, по свидетельству Гучкова, ими был заключен своего рода «договор» о «взаимной лояльности». Этот «договор» предусматривал обоюдное обязательство провести через Думу широкую программу реформ, направленных на дальнейшее развитие «начал конституционного строя». До тех пор, пока Столыпин сохранял хотя бы видимость соблюдения этого «договора», октябристы служили ему верой и правдой, будучи фактически правительственной партией [ Секиринский, Шелохаев, 1995, с. 248].
По мнению В.В. Леонтовича, октябристы «осуждали красный террор так же, как злоупотребления властью государственных органов при борьбе против революционных эксцессов» [ Леонтович, 1995, с. 484]. С другой стороны, внимая правительственным призывам, октябристы выразили полную готовность помочь власти в ее «успокоительных мероприятиях». Они одобрили предложение консерваторов об оказании материальной помощи из средств государственного казначейства лицам, «пострадавшим от разбойничьих действий революционных партий и лиц» [ Шелохаев, 1991, с. 51]. В ходе обсуждения этого предложения консерваторов лидер октябристов Гучков заявил: «Истинными героями являются не революционеры, а городовые, солдаты, генералы, губернаторы и министры, которые в течение многих лет мужественно выступают на своем посту, сиюминутно подвергая себя и своих близких тяжелой опасности»7.
В итоге октябристы проголосовали за формулу перехода к очередным делам в Государственной Думе, предложенную консерваторами, содержащего осуждение только «революционного террора» и по существу оправдывался правительственный террор в отношении революционно-демократического движения. В выступлениях с думской трибуны октябристы заявляли о том, что власть вправе вводить не только чрезвычайное, но и в «исключительных случаях» военное положение, а при подавлении «чрезвычайных явлений» и «открытого мятежа» ими признавалась необходимость и даже неизбежность «нарушения прав отдельных лиц»8. Октябристы поддерживали в III Думе правительственные мероприятия по «успокоению страны» и «наведению порядка».
Стоит отметить, что октябристы критиковали и консервативные партии, представленные в III Государственной Думе. Например, в декларации ЦК «Союза 17 октября» от 16 апреля 1909 г. отмечалось, что «крайние правые политические организации, мечтающие о возвращении к старому строю, который самим государем признан отжившим, являются принципиальными противниками деятельности настоящей Думы — деятельности, направленной к обновлению страны на началах, предначертанных высочайшей волей»9. Октябристы, хотя и довольно робко, высказывали пожелания приступить, наконец, к реформам. Они считали необходимым осуществить реформирование наиболее архаичных «звеньев» и «механизмов» отдельных министерств и ведомств, удалить из них «безответственных лиц», произвести «чистку» центрального и местного административного и полицейского аппарата от наиболее одиозных бюрократов, занимавших должности по протекции «темных» сил, а также от лиц, которые оказались замешанными в коррупции, провокациях и замечены в прямых связях с черносотенными погром- щиками [ Шелохаев, 1991, с. 52]. Однако последовательного осуждения черносотенного террора со стороны октябристов в источниках не обнаруживается. Исходя из этого наблюдения, можно заключить, что они его косвенно поддерживали, поскольку отказ от критики в условиях того времени означал одобрение насилия со стороны монархических организаций. Только ослабление революционной и террористической угрозы со стороны левых партий привело к косвенной критике черносотенцев и их методов борьбы.
На предвыборных собраниях в сентябре 1909 г. в Москве октябристы обвиняли кадетов в поддержке революционных убийств. Так, А.В. Бобрищев-Пушкин в доказательство обвинения приводил следующие факты: «в 1906 г. убито должностных лиц 768, ранено 820; в 1907 г. убито 1231, ранено 1312; в 1908 г. убито 299, ранено 530… Как же отнеслись кадеты к этим потокам крови? Они отказались осудить террор… В “катехизисе” Кизеветтера по вопросу об осуждении террора сказано: “Партия не может осудить гонимых людей, совершающих преступления против врагов народа, не имея возможности привлечь к ответственности привилегированных лиц, которые являются врагами всего народа”. В третьей Думе при обсуждении законопроекта о пособиях жертвам террора Родичев произнес речь, явно восхваляющую политические убийства»10.
Со второй половины 1909 г. заметен отказ октябристов от полной поддержки правительства в борьбе с революционерами, поскольку теракты практически сошли на нет, но власть не спешила переходить к обещанным реформам. Например, на III съезде октябристов (октябрь 1909 г.) был представлен доклад барона А.Ф. Мейендорфа «О неприкосновенности личности и об исключительных положениях». Он исходил из идеи борьбы «Союза 17 октября» за «разоружения и правительства, и враждующих с ним политических партий». По утверждению А.Ф. Мейендорфа, «обоюдная острота государственных репрессий слишком очевидна – те меры, которые рассматриваются властью как самоохрана, в глазах преследуемых приобретают характер насилия и вызывают террор против террора». С точки зрения октябристов, обе стороны – террористы и правительство – «преклоняются перед разрешением всевозможных конфликтов путем ‘‘силы”, а не ‘‘права’’». Путь выхода из кризиса виделся им в «‘‘заражении” правительства … теми великими началами справедливости и культурной борьбы, которыми уже достаточно ‘‘заражено” общество»11.
Основными тактическими приемами, которыми пользовались октябристы, осуждая в Думе революционный террор, были полемика с политическими противниками, в основном с кадетами, попытки провести свои резолюции с осуждением террора революционных партий в Думе, выступления с думской трибуны, поддержка действий правительства в прениях и при голосовании.
Начиная с 1910 г. думская фракция «Союза 17 октября» усилила критику «незакономерных» действий правительства и местных властей. Так, выступая 22 февраля 1910 г. при обсуждении сметы МВД, Гучков заявил: «При наступивших современных условиях я и мои друзья уже не видим прежних препятствий, которые оправдали бы замедление в осуществлении гражданских свобод, тех свобод, которые манифестом 17 октября, как вы помните, поставлены рядом с политической свободой. Мы не видим препятствий к более быстрому водворению у нас прочного правопорядка на всех ступенях нашей государственной и общественной жизни». Свою речь Гучков закончил знаменательной фразой: «Мы, господа, ждем»12.
Однако никаких действий со стороны правительства не последовало. В марте 1911 г. в знак протеста против «антиконституционных действий» П.А. Столыпина, связанных с принятием закона о земствах в западных губерниях по ст. 87 Основных законов, А.И. Гучков был вынужден уйти с поста председателя III Думы [ Павлов, Шелохаев, 2000, с. 120]. Надежды октябристов на либеральные реформы после «успокоения страны» не оправдались, несмотря на оказываемую поддержку правительству в борьбе с революцией и осуждение террора радикалов.
Тем не менее убийство Столыпина в сентябре 1911 г. вызвало шок в октябристской среде. Их надежда на возможность проведения через Думу либеральных реформ, опираясь на «договор» с властью, совсем исчезла. Обсуждая убийство П.А. Столыпина, октябристы провозглашали свой «Союз 17 октября» «непримиримым противником революционных насилий»13.
В ходе избирательной кампании в IV Государственную Думу октябристы указывали на созидательную силу работы III Думы и своей роли в ней. На выборах в IV Думу им удалось получить всего 98 депутатских мандатов. Учитывая неудавшийся опыт сотрудничества со Столыпиным в III Думе, октябристское руководство внесло некоторые изменения в политическую линию своей думской фракции. Все еще продолжая надеяться на «здравый смысл» и «нравственный авторитет» власти и ее реформистские потенции, октябристы стали более настойчиво требовать осуществления «начал» Манифеста 17 октября, чтобы предотвратить очередную вспышку революционных насилий14. Особую тревогу лидеров «Союза» вызвало нарастание кризисных явлений в политической жизни страны. Так, ЦК «Союза 17 октября» 5 октября 1913 г. в своем «Обращении ко всем членам партии» фиксировал, что «красный призрак революции уже ясно поднимается над Россией, и может быть недалеко то время, когда повторятся события 1905 года»15.
На ноябрьской конференции 1913 г. А.И. Гучков вынужден был заявить о разрыве «договора» с правительством, политика которого уже представляла «прямую угрозу конституционному принципу». Трагизм сложившейся политической ситуации Гучков видел в том, что основная опасность состоит «не в антидинастической проповеди, не в антирелигиозных учениях, не в пропаганде идей социализма и антимилитаризма, не в агитации анархистов против государственной власти», а в том, что правительство своими реакционными действиями подрывает государственные основы, «революционизирует общество и народ», приближая тем самым страну к новой революции. «Историческая драма, которую мы переживаем, – подчеркивал Гучков, – заключается в том, что мы вынуждены отстаивать монархию против тех, кто является естественными защитниками монархического начала, церковь против церковной иерархии, армию против ее вождей, авторитет правительственной власти против носителей этой власти»16.
Таким образом, А.И. Гучков характеризовал правительственный курс как ведущий «к неизбежной, тяжелой катастрофе». Попытка октябристов примирить «две вечно враждовавшие между собою силы – власть и общество», по выражению лидера «Союза 17 октября», «потерпела неудачу». Была усилена риторика октябристов с требованием осуществления широкой программы либеральных реформ, но для этого предлагались только «легальные средства парламентской борьбы: свобода парламентского слова, авторитет думской трибуне, право запросов, право отклонять законопроекты и прежде всего бюджетные права, право отклонять креди-ты»17. Октябристы теряли веру в способность и желание правительства провести обещанные реформы и вывести страну из кризиса. Правительство, по мысли октябристов, могло привести только к очередному всплеску террора в отношении царских бюрократов.
Несмотря на прозвучавший на ноябрьской конференции призыв к сплочению, уже в декабре 1913 г. думская фракция октябристов раскололась на три части: земцев-октябристов (65 человек), собственно «Союз 17 октября» (22) и группу из 15 бывших членов фракции, объявивших себя беспартийными, а на деле вошедших в блок с думским консервативным крылом [ Павлов, Шелохаев, 2000, с. 121].
Первая мировая война способствовала окончательной дезорганизации «Союза 17 октября». Как партия он прекратил существование, хотя некоторые крупные партийные деятели (А.И. Гучков, М.В. Родзянко, И.В. Годнев) продолжали играть заметную роль в политической жизни страны вплоть до лета 1917 г. [Там же, с. 121]. Вопрос о терроре уже с 1912 г. постепенно перестал обсуждаться октябристами по мере прекращения политического террора (1908– 1911 гг.).
Таким образом, октябристы были изначально противниками политического террора в отношении правительственных чиновников, видя в насилии угрозу стабильности развития общества. «Союз 17 октября» осуждал в первую очередь террор революционеров, тем самым пытаясь оказать поддержку правительству с целью добиться от него проведения либеральных реформ. После отказа власти от реформаторского курса октябристы перешли к конфронтации с ней, полагая, что такой шаг правительства вызовет всплеск революционного насилия.
Список литературы «Союз 17 октября» и политический террор начала XX века
- Белоконский И.П. Земское движение. М., 1910.
- Белоконский И.П. Земство и конституция. М., 1910.
- Багдасарян В.Э., Бакаев А.А. Российский революционный терроризм через призму исторической и общественно-политической мысли. М., 2004.
- Гейфман А. Революционный террор в России. 1894-1917. М., 1997.
- Шацилло К.Ф. Русский либерализм накануне революции 1905-1907 гг.: организация, программы, тактика. М., 1985.
- Шелохаев В.В. Партия октябристов в период первой российской революции. М., 1987.
- Павлов Д.Б., Шелохаев В.В. Союз 17 октября//Политические партии России: история и современность. М., 2000.
- Павлов Д.Б. Предисловие//Партия «Союз 17 октября»: Протоколы съездов, конференций и заседаний ЦК: в 2 т. Т. 1: Протоколы съездов и заседаний ЦК. 1905-1907 гг. М., 1996.
- Христофоров И.А. От самодержавия к думской монархии//Первая революция в России: Взгляд через столетие. М., 2005.
- Шелохаев В.В. Идеология и политическая организация российской либеральной буржуазии. 1907-1914 гг. М., 1991.
- Секиринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в России: очерки истории (середина XIX -начало XX в.). М., 1995.
- Леонтович В.В. История либерализма в России: 1762-1914. М., 1995.