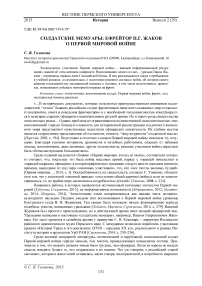Солдатские мемуары: ефрейтор П. Г. Жаков о Первой мировой войне
Автор: Голикова С.В.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: Российское общество в условиях военных конфликтов
Статья в выпуске: 2 (29), 2015 года.
Бесплатный доступ
Эгодокументы участников Первой мировой войны - важный информационный ресурс наших знаний об этом военном конфликте. Воспоминания одного из них - уральца Павла Жа-кова - посвящены первым дням Галицийской битвы. В них рассказывается также о пребывании в учебной команде, а следовательно, о подготовке рядового состава к войне, об истории своего ранения и оказанной ему медицинской помощи, о тыловых, в том числе нелегитимных, практиках, позволивших избежать повторной отправки на фронт.
Эгоисточники, воспоминания солдат, первая мировая война, фронт, тыл, медицинская помощь раненым
Короткий адрес: https://sciup.org/147203625
IDR: 147203625 | УДК: 82-94:94(100)"1914/19"
Текст научной статьи Солдатские мемуары: ефрейтор П. Г. Жаков о Первой мировой войне
«…В исторических документах, которые пользуются преимущественным вниманием исследователей, “голоса” бывших российских солдат-фронтовиков чаще всего искажены: мир солдатского восприятия, опыта и поведения фрагментарно и с неизбежной тенденциозностью конструируется в мемуарах старших офицеров и военачальников русской армии. Но и такого рода свидетельства относительно редки… Однако проблема не ограничивается количественной недостаточностью этих воспоминаний: гораздо большую сложность для исторической реконструкции солдатского жизненного мира представляют качественные недостатки офицерских свидетельств. Их слабым местом является стереотипное представление об отсталости, темноте, “некультурности” солдатской массы» [ Нарский , 2005, с. 194]. Подготовка к столетию с начала Первой мировой войны изменила эту ситуацию. Благодаря усилиям историков, архивистов и музейных работников, спасших от забвения письма, воспоминания, даже дневники, другие эгодокументы, рядовые участники войны перестали быть «безмолвствующим большинством».
Среди изданий выделяется сборник «Первая мировая: взгляд из окопа», составители которого считают, что, поскольку это была война массовых армий, наряду с «правдой начальства» и «правдой кадровых офицеров» в историографическую традицию следует ввести описания военного времени, вышедшие из под пера «основных участников», тех, кто «нес тяготы военных будней» [Первая мировая…, 2014, с. 3]. Востребованность их свидетельств, согласно С. Ушакину, объясняется тем, что у носителей «окопной правды» «отсутствие общей картины (войны) если не компенсировалось, то, по крайне мере, вытеснялось подробностью деталей» [ Ушакин , 2008, с. 234].
Появились работы, в которых выявляются источниковый потенциал эготекстов Первой мировой [ Хубулова , Сосранова , 2015], их информативные возможности [ Абдрашитов , 2012; Намято-ва , 2014; Петрова , 2014]. Эгоисточники стали восприниматься как важная часть историкокультурного наследия. Недавно увидели свет воспоминания о Первой мировой войне уроженца Кунгурского уезда В. Н. Журавлева. Тем самым было положено начало формированию корпуса подобных текстов, написанных уральцами [ Лобанов , Ощепков , Суржикова , 2014, с. 279]. Василий Журавлев был простого происхождения, но в действующей армии имел низший офицерский чин. Уральцами написаны и настоящие «солдатские мемуары», например, Павлом Гавриловичем Жако-вым. Его текст хранится в семейном архиве у правнучки С. В. Кожокарь – директора Ильинского районного краеведческого музея Пермского края. С мемуарами позволили поработать участникам проекта « История Урала в эго-документах (XVIII – середина ХХ в.)», реализуемого в рамках Института истории и археологии УрО РАН [ Суржикова , 2014, с. 230–236].
Среди военной мемуарной литературы, отечественной и зарубежной, воспоминаний солдат Первой мировой войны гораздо меньше, чем текстов, принадлежащих командному составу. Причина не в том, что выжить низшим чинам было труднее, чем офицерам. Люди из народа не видели смысла поверять бумаге то, что сохранялось в их памяти. Что уж говорить о российской «серой скотинке», которая в массе своей оставалась, мягко говоря, малограмотной, а потребность выразить
личные чувства, собственное отношение к кровавой и суровой окопной «правде» предпочитала реализовать, обращаясь к фольклорным жанрам и ритуалам.
Между Журавлевым и Жаковым много общего: оба из крестьян, практически ровесники, к написанию воспоминаний приступили в 1960-е гг., но в отличие от большинства мемуаристов из простого народа «путевку» в большую жизнь они получили не в годы советской власти. И жизненные траектории у смышленых мальчиков получились разные. Постоянная нужда не позволила Павлу Жакову в отличие от Василия Журавлева после окончания начального училища продолжить образование и претендовать в случае призыва на получение офицерского чина. Если Журавлев был демобилизован только в декабре 1917 г., то пребывание на фронте Жакова из-за тяжелого ранения завершилось в 1914 г. Первая мировая оказалась периодом в его жизни, описанной с момента появления на свет в 1890 г. до конца 1930-х гг. Биографический текст Жакова дает возможность понять, что за человек был Павел Гаврилович и что двигало им при описании событий 1914–1918 гг.
Писать воспоминания Жаков начал за год до ухода из жизни – в феврале 1964 г., практически через пятьдесят лет после начала Первой мировой войны. Шестидесятые годы ХХ в. - особое время: уходило «на покой», а затем из жизни поколение людей, бывших активными участниками военных кампаний первой половины XX столетия. Они стремились увековечить память о себе, донести до современников и оставить потомкам собственное видение кровавых событий, очевидцами которых им довелось быть. Ветераны – от маршала до рядового – начали писать воспоминания, в их числе георгиевские кавалеры Первой мировой войны Г. К. Жуков и К. К. Рокоссовский.
К этому времени в триаде: Первая мировая война – Октябрьская революция – Гражданская война – наметились изменения: о первом мировом военном конфликте разрешено было рассказывать более подробно. Уходящее в историю пятилетие (1914–1918 гг.) уже не являлось актуальной современностью, мир стал другим. Советское государство доказало свою жизнеспособность, власть коммунистов представлялась современникам незыблемой, эмигранты первой волны стали восприниматься не только классовыми врагами, но и людьми, потерявшими родину. Конечно, первая мировая рассматривалась только в качестве пролога к более серьезным событиям. Жаков вполне соблюдает неписанные правила биографического жанра шестидесятых. Он называет войну «империалистической», сообщает, что более развитым солдатам муштра в «учебке» «была противна», заявляет о неподготовленности его части к войне, затем пишет о том, что «конца войны не было видно», а положение на фронте «было не блестящим», и это уже в 1915 г. «на кое что открыло глаза тем, кто думал». Полувековая же дистанция не должна смущать исследователей. Еще мальчиком Паша Жаков был в состоянии размышлять над происходящим и излагать свои мысли на бумаге. «Изюминка» его воспоминаний заключается в том, что, поскольку служить ему довелось в низших чинах, он видел то, что не бросалось в глаза командному составу, а рассказать об этом мог так, как было не в состоянии большинство рядовых.
О войнах начала XX в., прежде всего о Первой мировой, Жаков и его близкие знали не понаслышке, поскольку, участвуя в них, получали увечья, пропадали без вести, гибли. Его старший брат Петр успел повоевать в Русско-японскую войну. Осенью 1905 г. он был призван в армию и служил сначала в Томске, затем на Дальнем Востоке, в Харбине, Чите и Нерчинске. В 1909 г. забрали служить второго брата ‒ Федора. Как пишет мемуарист, «в связи с тревожным положением в мире» призыв того года «задержали в армии до весны 1913 года». Сам Павел попал в призыв 1912 г., к началу войны успел пройти «учебку», воевал на львовском направлении, был ранен и отправлен домой на долечивание, а затем «списан вчистую». Мировая бойня отняла у него двух старших братьев: Петр «умер с перебитым хребтом», а Федор пропал без вести. Выжил лишь брат Осип, черед служить которому наступил в начале 1916 г. По ранению он тоже получил отпуск домой, однако его не комиссовали. Только «развал» румынского фронта осенью 1917 г. позволил ему вернуться в родные места.
Вероятно, его воспоминания о Первой мировой были бы более информативными, поскольку военную лямку ему пришлось тянуть почти два года. Однако мы постараемся показать, что из братьев Жаковых, будь у них желание рассказать о войне и о своей жизни в эти годы, изложить все на бумаге без посторонней помощи смог лишь Павел.
Будущий мемуарист родился в деревне Жаковой Ильинской волости. В трех километрах от нее расположено широко известное как центр строгановских владений село Ильинское. Строгановы построили в этом месте школы, больницу, библиотеку, клуб и стремились поддерживать эти заведения в хорошем состоянии. Развитая социокультурная среда сыграла положительную роль в судьбе Павла Жакова. Его братьев одного за другим отдавали в находившееся здесь двухклассное училище Министерства народного просвещения. Учебное заведение, курс в котором был рассчитан на пять лет, являлось единственной такого рода школой в округе. «По существу она равнялась среднему учебному заведению…» [Чехов, 1923, с. 42–43].
Однако у братьев «дело не пошло»: Осипа только попытались учить, Петр протянул в училище две зимы, Федор – три. Учеба давалась легко только Павлу: еще до поступления в школу он научился читать и писать, каждый учебный год заканчивал с отличием, «с подарками книг и похвальным листом». Заведующий советовал талантливому выпускнику продолжить образование, собирался хлопотать за него, ожидая только согласия учиться дальше. Но юноша, которому претило чувствовать себя оборванцем, решил иначе. В семье достатка не было: своего хлеба хватало до февраля. Выручали промыслы: сельчане чеботарничали, плотничали, работали в каменоломнях. Как выражался Павел, и он «сел на седуху» вместе с братьями шить бродни и сапоги. Только один раз изменил он кустарному промыслу – нанялся матросом к пароходчику О. Н. Беклемышеву.
Именно школьные годы заложили в сельском парне стремление к самообразованию. По аналогии с рабочим-интеллигентом Павла можно назвать кустарем-интеллигентом: он был завсегдатаем общественной библиотеки, первым из ильинской молодежи стал выписывать газету «Копейка», проникал даже на спектакли в такое закрытое заведение, как клуб строгановских служащих. Возвращаясь через Москву после ранения домой, он не пьянствовал в кабаках, не просиживал вокзальные скамьи, а проводил время, осматривая достопримечательности города. Хотя добраться до Кремля и Большого театра ему с покалеченной рукой, вероятно, было непросто.
Таким образом, получение весьма добротного по дореволюционным меркам образования следует считать личной заслугой Павла Жакова: он с братьями находился в одинаковых условиях, а реализоваться, в том числе в написании мемуаров, смог только он. Текст воспоминаний свидетельствует о том, что его автор – один из лучших учеников ильинской школы, который имеет понятие о композиции, умело выстраивает сюжет, может сопрягать сведения «большой» истории с рассказом о личном, видит причинно-следственные связи, наконец, обладает большим словарным запасом, хорошим слогом.
Несмотря на короткое пребывание в действующей армии, Павел Гаврилович успел поучаствовать в одном из крупнейших сражений начала войны на Восточном фронте. В августе 1914 г. произошла Галицийская битва, и в Люблин-Холмской операции оказался задействован 152-й Владикавказский пехотный полк, в котором Жаков служил. Однако ранило его задолго до завершения операции. Русские части только разворачивались в боевые порядки на львовском направлении и попали в серьезную переделку. Неразбериху первых дней пребывания во фронтовой полосе мемуарист и описывает, чаще всего упоминая местечко Комаров. Благодаря этой географической привязке можно понять, что речь идет о Томашевском сражении на центральном участке 5-й русской армии. Превосходящие силы австрийцев под руководством генерала М. Ауффенберга атаковали русский 19-й пехотный корпус, в который входил и полк Жакова.
Опытный командующий В. Н. Горбатовский, герой Плевны и Порт-Артура, несмотря на угрозу полного окружения, смог удержать позиции, а затем отбросить врага и стабилизировать ситуацию [ Зайончковский , 2002, с. 148–149]. Из воспоминаний Жакова видно, насколько сложно было наладить командованию управление войсками и как трудно обыкновенному пехотинцу было вникнуть в оперативную обстановку и понять смысл происходящего. За успешные действия Горбатов-ский получил очередного «Георгия», а Павел Жаков – неожиданно для себя георгиевскую медаль . Хотя наградить его следовало если не за ратные подвиги, то уж точно за ранение. Именно в те трудные дни он в полной мере познал мучения человека, пробирающегося в тыл за медицинской помощью, поскольку в условиях окружения раненые были предоставлены сами себе. Жакову повезло, поскольку рука, прооперированная очень поздно, после «долечивания» стала действовать и он не остался инвалидом.
В предлагаемом отрывке воспоминаний Павла Гавриловича описан не только эпизод из Галицийского сражения. Интерес представляют три сюжета. Первый - рассказ о пребывание в учебной команде, показывающий, как проходила подготовка рядового состава к войне. Второй - история о том, как он раненый эвакуировался в тыл и как ему оказывалась медицинская помощь, поскольку о мытарствах по госпиталям в связи с тяжелым ранением известно, как правило, со слов офицеров. Третий – описание способов избежать повторной отправки на фронт.
Публикаторов и исследователей привлекают «Я-тексты» Первой мировой войны, написанные от лица военных. Ценятся авторы, которым «посчастливилось» пройти войну от начала до конца, или те, кто участвовал в наиболее важных сражениях. Обращается внимание на время пребывания человека в действующей армии, тыловые или госпитальные эпизоды считаются второстепенными. Интерес к сугубо фронтовой тематике говорит о еще не слишком глубоком проникновении в изучаемую тему и о не самом широком ее охвате. Создание целостной картины восприятия Первой мировой потребует внимания и к предвоенному и послевоенному контексту, к тылу, к людям, не принимавшим непосредственного участия в боевых действиях. Обращение к разнообразным человеческим свидетельствам позволит вывести современные дискуссии о способах мемориа-лизации «Великой войны» за рамки патриотического официоза. В этой связи воспоминания Жакова интересны тем, что затрагивают три важнейших пространства Первой мировой: фронт, тыл, госпиталь, а связующей нитью между ними выступает человеческая судьба.
Список литературы Солдатские мемуары: ефрейтор П. Г. Жаков о Первой мировой войне
- Абдрашитов Э. Е. Письма военнопленных Первой мировой войны как канал передачи информации//Вестник Томского государственного университета. История. 2012. № 3
- Зайончковский А. М. Первая мировая война. СПб., 2002. Т. 1
- Лобанов Д. А., Ощепков Л. Г., Суржикова Н. В. Первая мировая война в воспоминаниях Василия Журавлева//История в эго-документах: исследования и источники. Екатеринбург, 2014
- Намятова Е. С. Личные письма периода Первой мировой войны в фондах национального архива республики Карелия//Эго-документальное наследие российской провинции XVIII-XXI вв.: проблемы выявления, хранения, изучения, публикации. Тверь, 2014
- Нарский И. В. Фронтовой опыт русских солдат. 1914-1916 годы//Новая и новейшая история. 2005. № 1. Первая мировая: взгляд из окопа. М.; СПб., 2014
- Петрова И. С. Эго-документ как информационный ресурс регионального архива по истории Первой мировой войны 1914-1918 гг.//Вестник архивиста. 2014. № 4
- Суржикова Н. В. Это странное слово «эго-документы»: интеллектуальная мода или осознанная необходимость//Документы личного происхождения в практике научных исследований. Тверь, 2014
- Ушакин С. А. Осколки военной памяти: «Все, что осталось от такого ужаса?»//Новое лит. обозрение. 2008. № 5
- Хубулова С. А., Сосранова З. В. Эго-документы как исторический источник по Первой мировой войне//Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2015. № 1
- Чехов Н. В. Типы русской школы в их историческом развитии. М., 1923