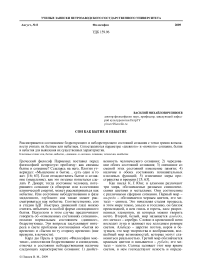Сон как бытие и небытие
Автор: Пивоев Василий Михайлович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8 (102), 2009 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается соотношение бодрствующего и небодрствующего состояний сознания с точки зрения возможности считать их бытием или небытием. Сопоставляются параметры «дневного» и «ночного» сознания, бытия и небытия для выявления их существенных характеристик.
Сон, бытие, небытие, "дневное" и "ночное" сознание, энтелехия, инобытие
Короткий адрес: https://sciup.org/14749628
IDR: 14749628 | УДК: 159.96
Текст научной статьи Сон как бытие и небытие
Греческий философ Парменид поставил перед философией непростую проблему: как связаны бытие и сознание? Ссылаясь на него, Плотин утверждал: «Мышление и бытие… суть одно и то же» [16; 63]. Если отождествлять бытие и сознание (мышление), как это позднее попытался сделать Р. Декарт, тогда состояние человека, потерявшего сознание (в обмороке или в состоянии клинической смерти), может рассматриваться как небытие. Или состояние небодрствования в фазе медленного, глубокого сна также может рассматриваться как небытие. Соответственно, сон в стадии БДГ (быстрых движений глаз) можно считать небытием в особой форме сновиденного бытия. Психологи в этом случае предпочитают говорить об «измененных состояниях сознания», полагая нормальным состоянием «дневное», бодрствующее. Эти вопросы заслуживают интереса в свете проблемы соотношения «бытия во времени» и «бытия по ту сторону времени» (вне времени, в вечности).
Карл дю Прель в трактате «Философия мистики», сопоставляя бодрствование и сновидения, отмечал в состоянии небодрствования наличие следующих характеристик сознания: 1) двойст- венность человеческого сознания; 2) чередование обоих состояний сознания; 3) связанное со сменой этих состояний изменение памяти; 4) наличие в обоих состояниях познавательных и волевых функций; 5) изменение меры пространства и времени [15; 63].
Как писал К. Г. Юнг, в алхимии различают три мира, обозначаемые разными символическими цветами и металлами. Они соотносимы с различными сферами сознания. Первый мир – нигредо – обозначается черным цветом, его металл – свинец. Это начальная стадия процесса, в этом мире темно, уныло и тоскливо, он близок преисподней, в нем гниль и горечь, хаос разрозненных элементов, из которых можно творить нечто. Второй, белый, мир называется альбедо , его металл – серебро. Словно в кромешной ночи восходит луна и заливает все холодным ровным светом. Альбедо – царство поэтов, воров и безумцев, это мир творчества и воображения, волшебный мир возможностей, которые могут становиться реальностью. Третий мир обозначается красным цветом и называется – рубедо , его металл – золото. Солнце заливает этот мир ярким светом, в нем господствуют ясность и опреде-
ленность, порядок и трезвый рассудок. Это мир «дневного» сознания, в котором недопустимы сомнения, только железная целеустремленная воля [28; 333–334].
Аналогичные этапы проходит процесс осознания иррациональных импульсов из сновидений, как излагает Роберт Боснак [3; 51–59]. Этому можно найти соответствие в ритмах мозговой активности: альфа-, бета-, дельта- и тета-ритмы.
Стоит напомнить, что индийские философы школы вайшешека различали четыре вида небытия: 1) небытие вещи до ее создания в том материале, из которого ее можно сотворить (потенциальное бытие); 2) небытие вещи в обломках после ее разрушения (остаточное бытие); 3) отсутствие связи между двумя вещами (нереальное бытие); 4) отсутствие каких-то признаков или качеств у вещи, в отличие от другой (несходство, обоюдное небытие) [25; 51, 236–238]. Таким образом, полноценным бытием является актуализированное бытие, которое Аристотель называл «энтелехией», а М. Хайдеггер – «Da-Sein», «бытие-сейчас», в настоящем времени [24; 335–372].
Трудность осмысления «бытия-сейчас» заключается в особенностях нашего сознания, которое, как хорошо показал А. Бергсон, не позволяет одновременно мыслить и осмысливать самое себя в терминах однозначной логики левого полушария. Это возможно только в рамках многомерной логики, которая допускает одновременное существование следующих утверждений: 1) есть; 2) не есть; 3) есть и не есть; 4) ни есть, ни не есть. Первые два положения не противоречат формальной логике «дневного» сознания, два последних допустимы в рамках иррационального ночного сознания.
Когда обсуждается вопрос о бытии и небытии, обычно не учитывается, что человек двусоставен, состоит из тела и духа (души), поэтому вопрос о бытии и небытии должен по-разному рассматриваться для тела и для духа (души). С точки зрения тела человека бытие равнозначно биологической жизни. Прекращение кровообращения, дыхания, сердечной деятельности приводит к смерти тела и разложению организма, что рассматривается как наступление небытия. Несколько сложнее вопрос о бытии и небытии духа и души, опирающихся на энергоинформационную субстанцию, которая не исчезает сразу же после физической смерти тела. Как показали исследования профессора Н. Короткова, энергоинформационная аура остается рядом с телом еще некоторое время, примерно девять дней. По мере прекращения функций и биологических процессов в теле его энергетика угасает, ослабляются связи с организмом, энергоинформационная субстанция отделяется от тела и уходит куда-то. Куда? – на этот вопрос ответ пока дает только религия (к Богу, в нирвану, к Атману), у науки ответа нет. Смерть как форма небытия – это тема отдельного осмысления. П. А. Флоренский писал: «Человек умирает только раз в жизни и потому, не имея опыта, умирает неудачно. Человек не умеет умирать, и смерть его происходит ощупью, в потемках. Но смерть, как и всякая деятельность, требует навыка. Чтобы умереть вполне благополучно, надо знать, как умирать, надо приобрести навык умирания, надо выучиться смерти. А для этого необходимо умирать еще при жизни, под руководством людей опытных, уже умиравших. Этот-то опыт смерти и дается подвижничеством. В древности училищем смерти были мистерии» [22; 169].
Если же говорить о сне, то здесь возникает сложность, ибо слово имеет два основных значения: 1) состояние сна, или небодрствования; 2) видения, являющиеся небодрствующему, спящему, ночному, измененному сознанию человека.
В нашей статье мы имеем в виду главным образом первое значение, то есть сон как ночное и измененное состояние сознания, хотя с соответствующими оговорками употребляется и второе. Наша главная идея заключается в сопоставлении и осмыслении различий «дневного» состояния сознания, которое обычно рассматривается как бытие, и «ночного», где онтологические характеристики проявляются менее явственно. Важно при этом более четко обнаружить критерии, онтологические параметры состояний сознания «дневного» и «ночного». Наше исследование подчинено задачам, выходящим за рамки статьи, связанным с поисками сущности сознания как духовной субстанции и выяснением его (сознания) онтологической основы.
О сложностях воображаемого мира сновидений писал Плутарх, ссылаясь на Гераклита: «…для всех бодрствующих существует один, общий мир, во сне же каждый устремляется в свой собственный. Но для суеверного нет ни такого мира, который бы он разделял с другими, ни такого, которым владел бы сам: даже бодрствуя, он не способен здраво мыслить, даже во сне не находит покоя; рассудок его спит, зато страх всегда бодрствует, и нет от него ни спасения, ни избавления» [17; 392]. Гипноз обычный и эриксоновский также создают иные формы воображаемой реальности.
Двумя полюсами человеческого существования являются сон и бодрствование. Как писал Э. Фромм, «бодрствование связано с функцией действия, сон свободен от нее. Сон связан с функцией восприятия себя. Когда мы пробуждаемся, мы устремляемся в сферу действий. Мы принимаем установки в соответствии с этой системой, и наша память действует в ее пределах: мы помним то, о чем можно думать в категориях пространства и времени. Мир сна исчезает. То, что с нами происходило – наши сновидения, – припоминается с огромным трудом. Такая ситуация представлена символически в большинстве народных сказок: ночью действуют призраки и духи, добрые и злые, но с рассветом они исчезают, и от их активной деятельности не остается и следа» [23; 193]. Но откуда мы знаем, что мы спим? У Р. Декарта описан человек, который сидит с книгой у камина и дремлет, и ему снится, что он сидит с книгой у камина и дремлет и т. д. Где граница между сном и реальностью? [7; 17]. Американский философ Н. Малкольм, размышляя об этой проблеме, написал книгу «Состояние сна», где попытался обнаружить рациональные критерии различения сна и бодрствования, но не преуспел в этом.
Как справедливо полагает А. Ксендюк, сновидение включает в себя «и переработку дневных впечатлений, и разрядку психологического напряжения, возникшего от эмоциональной жизни в бодрствующем состоянии, и продолжение интеллектуальной активности» [11; 7]. «Сновидение - парадоксальное состояние психики, и этим оно подобно гипнозу, медитации, трансу. Парадокс заключается в том, что сознание относится к поступающим извне сигналам, нарушая фундаментальные законы бодрствующего восприятия - сильные сигналы могут категорически вытесняться, слабые же - попадать в фокус внимания и там значительно усиливаться» [11; 8]. А. Ксендюк выделял три теории сновидений: 1) скептическая (ее сторонники считают сновидения психическим феноменом, лишенным познавательной ценности); 2) символическая (сторонники ее считают сны символически зашифрованной ценной информацией); 3) буквальная (во время сновидений сознание уходит в иные измерения и миры) [11; 5].
Итак, сновидения - как они возникают? Попытку объяснить это делает Анри Бергсон: «...Наши воспоминания образуют в данный момент солидарное целое, так сказать, пирамиду, острие которой как раз внедряется в наше действие последнего момента. Но позади воспоминаний, только что вошедших таким образом в наше действие и открывшихся нам, благодаря последнему, существуют тысячи и тысячи других, заключенных в памяти, там внизу, под сценой, освещенной сознанием. Да, я считаю, что вся наша прошлая жизнь сохраняется до мельчайших подробностей, что мы ничего не забываем и что все, что мы чувствовали, воспринимали, думали, желали со времени пробуждения нашего сознания, живет неразрушимым. Но те воспоминания, которые моя память сохраняет в самых темных глубинах, находятся там в виде невидимых призраков. Они стремятся, быть может, к свету, но они не пытаются даже туда подняться; они знают, что это невозможно, что я, живое и действующее существо, имею другие дела помимо того, чтобы заниматься ими. Теперь предположите, что в данный момент я становлюсь безучастным к настоящему положению, к настоящему действию, одним словом, ко всему тому, что до сих пор фиксировало и направляло мою память. Предположите, другими словами, что я засыпаю. Тогда поднимаются эти воспоминания, чувствуя, что я удалил препятствие, приподнял трап, удерживающий их в подпочве соз- нания. Они встают, мечутся, исполняют во мраке грандиозный танец мертвецов. И все бегут к двери, только что приоткрывшейся, все желали бы пройти в нее, но они не могут этого сделать, так как их слишком много. Кто же будет избранным из этого множества званых? Нетрудно угадать это. Сейчас, когда я бодрствовал, сумели пробиться только воспоминания, сославшись на родственные отношения с настоящим положением, с тем, что я видел, слышал вокруг меня. Теперь мое зрение занимают образы более смутные, до слуха моего доходят звуки более неопределенные, осязание, рассеянное по всей поверхности моего тела, менее отчетливо, но вместе с тем ощущения, доходящие до меня из глубоких частей моего организма, более многочисленны. И вот из числа моих воспоминаний-призраков, стремящихся наполниться цветом, звучностью, одним словом, материальностью, преуспеют лишь те, которые смогут ассимилироваться с цветной пылью, нами замечаемой, с внешними и внутренними шумами, нами слышимыми, и т. д. и которые вместе с тем будут более подходить к тону нашей общей чувствительности. Когда произойдет это соединение воспоминания и ощущения, мы будем иметь сновидение» [2; 990-991]. Такова одна из теорий сновидений.
Засыпая, мы как бы возвращаемся в некое темное и древнее обиталище теней, которое не освещается светом дневного мира. В этом мире нас несет какая-то неподвластная нашей воле сила. А. Бергсон обращает внимание на то, что если в дневном сознании одними из важнейших признаков нашего состояния являются «воля», воление и хотение, то в состоянии сна воление и хотение почти отсутствуют, а если и присутствуют, то не в состоянии повлиять на развитие сновидения. Правда, существуют попытки управлять сновидениями. О них рассказывали в своих книгах Карлос Кастанеда [10] и Тартанг Тулку Ринпоче [5]. Но это требует большой тренировки, и овладеть этим умением дано не каждому. Для обычного сновидения характерно отключение или максимальное ослабление воли и контроля «Сверх-Я», когда глубинные феномены психики начинают проявлять себя, стремясь выбраться на поверхность и подчинить себе структуры сознания.
Согласно Фрейду, сновидения имеют следующие источники:
-
• внешнее (объективное) чувственное раздражение;
-
• внутренние (субъективные) чувственные раздражители;
-
• внутреннее (органическое) физическое раздражение;
-
• чисто психические источники раздражений.
Фрейда интересовали только внутренние источники сновидений (нижние, из «оно», и верхние, из «я»), внешние он совершенно игнорировал [20]. Нас же интересуют выходы сознания за пределы своего тела.
В древности сновидениям придавали важное значение. Цари получали во сне указания богов, которые затем они выполняли в своей дневной деятельности. Так, шумерскому правителю города Лагаша во сне явился бог Нингирсу и приказал выстроить дворец, что царь и исполнил, оставив об этом соответствующую надпись. Особенную роль играли сновидения в ситуациях трудного выбора, когда не могли решить, какой из имеющихся альтернатив отдать предпочтение. Античный писатель Артемидор (I–II века н. э.) выделял следующие виды сновидений: простые (показывают настоящее) и вещие (предсказывают будущее); вещие подразделяются на прямосказа-тельные и аллегорические. Последние, в свою очередь, на 1) «своевещие» (во сне действует сам сновидящий); 2) «чужевещие» (во сне видят других); 3) «общие» (во сне действуют и сам видящий, и другие); 4) «общественные» (общественные события города); 5) «космические» (природные катаклизмы) [1; 10, 15–16]. Другая классификация Артемидора называется «видовой», в ней четыре вида: одни хороши внутри и снаружи; другие внутри и снаружи дурны; третьи внутри хороши, а снаружи дурны; четвертые внутри дурны, а снаружи хороши [1; 26]. Эрих Фромм выстроил из этих видов свою классификацию из пяти категорий: «Первое – это Сон, второе – Видение, третье – Оракул, четвертое – Фантазия, или пустое Воображение; пятое – Призрак.
Сном называется то, что открывает истину, скрытую под маской иного образа; так Иосиф толковал сны о семи тощих коровах, пожравших семь тучных коров, и то же – о семи тощих колосьях.
Видение – это когда человек, пробудившись, видит наяву то, что он видел во сне; как это было с Веспасианом, увидевшим, как врач вырвал ему зуб.
Оракул – это откровение или предсказание, полученное во сне от Ангела или Святого, объявляющего волю Бога, как это было с Иосифом, супругом св. Девы, и тремя мудрецами.
Фантазия, или пустое Воображение, возникает, когда страсть, овладевшая человеком, настолько сильна, что проникает в его спящий мозг и соединяется с более умеренным духом; таким образом, мысли, которые занимают нас днем, приходят к нам и ночью; и влюбленного, который днем думает о своей милой, эти мысли не оставляют и ночью. Бывает и так, что голодному снится насыщение, а жаждавшему снится, что он пьет, и он испытывает блаженство...
Призрак – это не что иное, как ночное видение, являющееся слабым детям и старикам, которым кажется, что призрак приближается, чтобы напугать их или причинить им вред» [23; 234–235].
В психоанализе существуют попытки сближения сна и мифа. Анализу сновидений придавал огромное значение З. Фрейд, искавший в них скрытые формы сексуальной заинтересованности. Но особенно целенаправленно и плодотвор- но исследовал сон К. Г. Юнг, обнаруживший общие корни у мифа и сна, их общий язык. Он полагал, что «мифы изначально суть выявления досознательной души, непроизвольные высказывания о бессознательных душевных событиях», возникающие «в таком состоянии, когда интенсивность сознания понижена (при сновидениях, в бреду, при снах наяву, видениях и т. п.). В подобных состояниях сосредоточенное сознание и исходящее от него сдерживание всего, что содержится в бессознательном, устранены, и из последнего доселе бессознательный материал устремляется, как через распахнутые двери, в пространство сознания» [27; 121–122]. Очень важна мысль Юнга о компенсаторной функции сна, во время которого происходит реализация тех сокровенных желаний и устремлений, которые наяву осуществить не удается. Ф. Ницше замечал: «Сон переносит нас назад, к отдаленным эпохам человеческой культуры, и дает нам средство лучше понять их» [14; 246], но также и себя, ибо память древних эпох содержится в глубинах нашего сознания.
Замечено, что «для сна есть особая логика, совершенно отличная от логики нашего дневного сознания, но тем не менее вполне строгая и согласная с какими-то основными, но малоизвестными нам свойствами нашего мозга» [4; 697]. Сальвадор Дали попытался изобразить сон своей жены Галы, проснувшейся от укуса осы. П. А. Флоренский, анализируя логику сна в книге «Иконостас», обнаруживал, что сон строится «телеологически», но вспять, от цели или «конечной причины» назад к причине начальной [21; 420]. Как полагают современные исследователи сновидений, «сновидение является прототипом всякого духовного творчества взрослого человека» [19; 55]. Имеются в виду «хорошие сновидения».
Мы не часто сталкиваемся с наглядным выражением бесконечности. Если в темной комнате поставить два зеркала друг против друга и сесть со свечой посередине, то мы увидим бесконечный коридор, уходящий во тьму. «Или ты не веришь, что в человеке есть бездны столь глубокие, что они скрыты даже от него самого, в ком, однако, пребывают?» – задавался риторическим вопросом Аврелий Августин. Ночью человек остается один на один со своими страхами, сомнениями, одиночеством. Иррациональная бездна его души открывается навстречу бездне ночного неба.
Как уже говорилось выше, дневное и ночное время существенно отличаются по своим возможностям обеспечивать безопасность жизни человека. Если днем можно с помощью зрения заблаговременно обнаружить опасность и подготовиться к ее отражению, то ночью опасность может возникнуть внезапно, и это в значительной степени обусловливает повышенный потенциал тревожности. Отсутствие контакта с другими людьми приводит к переживанию одино- чества и свободы, что дает гамму противоречивых импульсов, негативных и позитивных, стимулирующих творчество и поиски религиозномистического контакта с Абсолютом.
Темнота ночи – благоприятное условие для того, чтобы задуматься над вопросами метафизическими, вопросами о смысле жизни и смысле смерти, на которые не может быть однозначного и окончательного ответа. Нет необходимости доказывать их нужность и важность. Человечество тысячелетиями ставит их, пытается находить ответы. Г. С. Померанц обнаруживает три уровня приближения через эти вопросы к вечности или к глубине (то есть к Богу): 1) невозможность жить в мире разума без прикосновения к сверхразумному; 2) «неожиданное взрывное чувство сверхразумной реальности»; 3) контакт со сверхразумным, божественным, «парение в духе». Он полагает, что в русской литературе первый уровень проявлен в творчестве Л. Н. Толстого, второй – в некоторых стихотворениях Ф. И. Тютчева и в творчестве Ф. М. Достоевского, третий – только в иконах Рублева и Дионисия [18; 366–367].
Ночь всегда считалась пространством и временем магии и мистики. Важное значение придавалось «ночи» в фольклорном сознании. По замечанию Д. К. Зеленина, сказки запрещалось рассказывать днем, при дневном свете и в течение лета, их можно было рассказывать в вечернее время зимой [9; 217]. Напротив, загадки нельзя было загадывать на ночь, а то придет «хозяйка загадок» и уведет в царство мрака. Сказки, рассказанные вечером, создают магическое кольцо, обруч-оберег, зону защиты, оберегающую дом от враждебного, «чужого» мира ночи, но эти «обручи» утром нужно снять, что и выполнялось с помощью загадок.
С древних времен люди догадывались о влиянии луны и других небесных светил на биосферу Земли и состояние человека. Сегодня эти догадки получают все больше подтверждений. Луна влияет на выработку в организме человека гормонов мелатонина и сератонина, которые регулируют психику и поведение человека, функции его организма, его сопротивляемость болезням [8]. Основоположник отечественной космобиологии А. Л. Чижевский писал: «Различные небесные явления люди считали предвестниками грозных и важных событий в человеческом мире, считали их знаками или знамениями, которыми природа якобы предупреждает человека об этих событиях на своем языке, говоря “будь готов”. Странная окраска небесного свода, стрельчатые облака, лучи, столбы и вееры полярных сияний, круги вокруг Солнца и Луны, страшные грозы, знаки на Солнце, под которыми древние разумели пятна, видимые невооруженным глазом, шумы, сопровождающие северные сияния или грозовые разряды, – эти “голоса прорицания”, или различные сигналы, происхождение которых было неизвестно, колебания почвы, на- конец, затмение Солнца и Луны или появление кометы – все эти красивейшие и страшные явления природы человек считал вестниками повальных моровых поветрий – одним словом, знаками» [26; 47]. Не только свет солнца, но и потоки космической энергии, поступающей к нашей планете от далеких туманностей и звезд, оказывают свое влияние на жизнь. Живое вещество планеты Земля развивается в течение длительного времени под непрерывным воздействием космической радиации, поэтому оно должно было выработать механизмы защиты от излучения и способы утилизации этой энергии. Живая клетка является результатом напряжения творческих способностей всей вселенной, как подчеркивал А. Чижевский.
Жизнь продолжает испытывать на себе влияние космических излучений; изменения космической среды вызывают в человеке процессы, которые, доходя до уровня психики и сознания, порождают импульсы и реакции, определяют его поведение, особенно в ситуациях выбора, в ключевых точках его исторической судьбы. Космические излучения могут продуцировать мутантные изменения в биосфере, что сказывается на состоянии информационнобиоэнергетического континуума – ноосферы. Л. Н. Гумилев полагал, что именно эти космические воздействия порождают пассионарность, энергетический потенциал, стимулирующий возникновение этноса и его бурную экспансию по освоению биосоциальной среды.
Формой «ночного» сознания изначально являются звуковая речь и музыка, опирающиеся на слуховое восприятие. Кроме того, с «ночным» сознанием связано тактильное восприятие.
Оппозиционность культуры романтизма предшествующей культуре классицизма и Просвещения проявляется в тяготении к иррациональному и темному, ночному в противоположность рациональной ясности просветительской картины мира. Примерами особого интереса романтиков к ночи и «ночному» сознанию могут служить «Гимны к ночи» Новалиса, «Ночные бдения» Бонавентуры (Ф. Шеллинга), «Гаспар из тьмы» А. Бертрана. Стихотворения, посвященные ночи, есть практически у каждого немецкого и английского поэта-романтика. В музыке романтиков очень популярен жанр «ноктюрна» (лат. nocturnus – ночной). Художник А. Я. Карстенс в 1795 году написал картину на мифологический сюжет «Ночь и ее дети».
На картинах художника испанского Возрождения Эль Греко присутствует особый мистический пронзительный белый свет, выражающий Святой Дух. Где художник мог увидеть его, чтобы изобразить на своих полотнах? Такой свет в дневное время не встречается, солнечный свет – желтый, а этот напоминает свет молний во время грозы.
В основе «ночной» культуры лежит «ночное» сознание, которое подразделяют на бодрствующее и измененное. Сон является наиболее известной формой измененного состояния соз- нания, кроме него могут быть галлюциногенные, наркотические, алкогольные и химические источники измененных состояний сознания [20; 180–248], которые схожи со сном, но имеют свои особенности. Об этом пишут в своих книгах американские этнографы Карлос Кастанеда [10], Майкл Харнер и Теренс Маккена [12]. Методики и средства перевода сознания в измененное состояние различны. В шаманско-мифологической практике использовались барабанная дробь, пение, пляска под ритм бубна, дыхательные упражнения, медитация, социальная и сенсорная изоляция, алкоголь, наркотики и психоделические растения, из которых приготавливались напитки типа «хаомы», «сомы», «аяухаски», «у-ку-хе».
Ю. М. Лотман считал сон «семиотическим окном» в будущее [6; 5], ибо во время сна происходит контакт с информационными полями, откуда сознание может получать прогностическую информацию о будущем. Как замечает Е. М. Неёлов, в фольклорной сказке сон сообщает буквальную информацию о том, что предстоит герою. А в литературном произведении сон информативен иносказательно, он сообщает сведения о мире в переносном смысле, намекает на что-то, подсказывает и предостерегает.
Творческий потенциал «ночного» сознания может быть подтвержден многочисленными свидетельствами. Г. В. Ф. Гегель полагал, что сова Минервы предпочитает вылетать лишь в сумерках. Английский поэт С. Кольридж утверждал, что создал во время сна около 300 стихотворений, из которых успел записать после пробуждения только 54. Вольтер сочинил во сне одну из песен поэмы «Генриада», Г. Р. Державин – последнюю строфу своей оды «Бог», А. С. Грибоедову приснился сюжет пьесы «Горе от ума», археологу Г. Шлиману – место, где находится Троя. Композиторы Г. Берлиоз и Д. Тар-тини сочиняли во сне музыку, Д. И. Менделеев во сне увидел структуру своей периодической системы элементов, другой химик, Август Кекуле, открыл формулу бензола [13; 22–23]. П. И. Чайковскому приснилась тема его первого концерта.
Важнейшие характеристики «ночного» сознания:
-
• многозначность и многомерность, открытость безднам макрокосма и микрокосма, некаузальность (недетерминированность),
иррациональность, синхронность (одновременность), целостность, холономность, континуальность;
-
• опора на слуховое восприятие и духовность, идеальность, абстрактность, эмоциональность;
-
• позитивная ценностная рефлексия, достоверность личного опыта переживания, сомнение и нерешительность;
-
• эстетизм и совестливость, пессимизм и отчаяние («болезнь к смерти» С. Кьеркегора);
-
• ориентация на «бытие», критерий успеха – полнота бытия, самореализации, творчество и поиски надежды;
-
• интровертность и избирательная коммуникативность, глубина погружения в смысловые пространства культуры, опора на измененные состояния сознания (сон, миф, галлюцинации, медитация, исихазм).
Ведущим в «ночном» сознании можно считать стремление к вживанию и переживанию объекта в его процессуальности и континуальности без участия аналитических и дифференцирующих операций. Важнейшие функции «ночного» сознания и культуры таковы: творческая, ценностная, телеологическая, компенсаторная, понимания, мифологическая.
Согласно учению Гаутамы Будды, бытие есть полная осознанность, соответственно этому, иные формы сознания, например измененные состояния сознания, в которых отсутствует полный контроль над существованием, могут вполне считаться формами небытия (или инобытия).
|
Бытие |
Небытие |
|
Полная осознанность (рефлексивность) |
Отсутствие осознанности или неполная осознавае-мость |
|
Однозначная причинность |
Неоднозначная обусловленность, отсутствие причинных связей |
|
Осознание |
Отсутствие времени, |
|
времени |
связь с вечностью |
|
Трехмерная пространственная ориентация (обусловленная зрением с помощью двух глаз) |
Многомерность (или иномерность) пространства (обусловленная духовным видением) |
|
Энергия, действие, физическое движение в пространстве |
Отсутствие энергии, нирвана, покой, неподвижность |
|
Жизнь |
Смерть |
|
Бодрствование |
Небодрствование (сон) |
Исходя из вышесказанного, мы можем утверждать, что полноценным бытием может считаться осознаваемое бытие, контролируемое «дневным» сознанием. В таком случае сон есть «инобытие», или бытие в «измененном состоянии сознания», если принять за нормальное состояние сознания «дневное». Небодрствование (сон) является бытием только в физическом смысле. Но если вслед за Парменидом мы будет сближать мышление и бытие, то физическое «бытие» в состоянии не-бодрствования (сна без сновидений) не является полноценным бытием, оно должно считаться небытием. В нашей статье мы практически не останавливались на проблеме бытия в воображаемой и виртуальной реальности. Это является темой отдельного обсуждения.
Список литературы Сон как бытие и небытие
- Артемидор. Сонник. СПб.: ООО «Издательство Кристалл», 1999. 448 с.
- Бергсон А. Сновидения//Бергсон А. Творческая эволюция. Материя и память. Минск: Харвест, 1999. С. 9801004.
- Боснак Р.В мире сновидений. М.: Древо жизни, 1991. 89 с.
- Волошин М. Лики творчества. Л.: Наука, 1988. 848 с.
- Гарфильд П., Ринпоче Т.Т.Управление сновидениями. М.: Беловодье, 1994. 192 с.
- Данилова И.Ю.Вступительное слово//Сон -семиотическое окно: 16-е Випперовские чтения. М., 1994.
- Декарт Р. Размышления о первой философии, в коих доказывается существование Бога и различие между человеческой душой и телом//Декарт Р. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1994. Т. 2. С. 3-72.
- Дубров А.П. Лунные ритмы у человека. М.: Медицина, 1990. 160 с.
- Зеленин Д.К. Религиозно-магическая функция волшебных сказок//С.Ф. Ольденбургу к 50-летию научно-общественной деятельности. Л.: Изд-во АН СССР, 1934. С. 215-240.
- Кастанеда К.Искусство сновидения. Киев: София, 1993. Кн. 9. 320 с.
- Ксендзюк А.Пороги сновидений. Киев: София, 2005. 219 с.
- Маккена Т. Истые галлюцинации. М.; Киев: Изд-во Трансперсонального института, 1996. 290 с.
- Нечаенко Д.А.Сон, заветных исполненный знаков. М.: Юридическая лит-ра, 1991. 304 с.
- Ницше Ф. Человеческое, слишком человеческое//Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М.: Мысль, 1990. Т. 1. С. 231-490.
- Прель К. дю Философия мистики. М.: REFL-book, 1995. 512 с.
- Плотин. Сочинения. СПб.: Алетейя, 1995. 670 с.
- Плутарх. О суевериях//Плутарх. Сочинения. М.: Худ. лит-ра, 1983. С. 389-400.
- Померанц Г.С.Открытость бездне. Встречи с Достоевским. М.: Сов. писатель, 1990. 384 с.
- Современная теория сновидений. М.: АСТ: REFL-book, 1999. 334 с.
- Тард И. Состояния сознания//Магический кристалл: Магия глазами ученых и чародеев. М.: Республика, 1992. С. 180-248.
- Флоренский П.А.Иконостас//Флоренский П. А. Соч.: В 4 т. М.: Мысль, 1996. Т. 2. С. 419-526.
- Флоренский П.А. Человек умирает только раз в жизни//Тибетская книга мертвых (О жизни после смерти). СПб.: Изд-во Чернышева, 1992. С. 9-25.
- Фромм Э.Душа человека. М.: Республика, 1992. 430 с.
- Хайдеггер М.Бытие и время. М.: Ad Marginem, 1997. 451 с.
- Чаттерджи С., Датта Д.Индийская философия. М.: Селена, 1994. 416 с.
- Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. М.: Мысль, 1976. 368 с.
- Юнг К.Г. К пониманию психологии архетипа младенца//Самосознание европейской культуры ХХ века. М.: Изд-во полит. лит-ры, 1991. С. 119-129.
- Юнг К.Г. Психология и алхимия. М.: АСТ, 2008. 608 с.