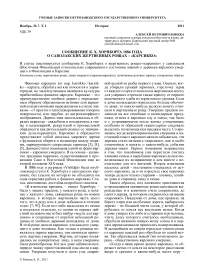Сообщение К. Х. Хорнборга 1886 года о саволакских жертвенных рощах - «карсикко»
Автор: Конкка Алексей Петрович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7 (120) т.1, 2011 года.
Бесплатный доступ
Жертвенные рощи, знаки умершего (деревья-карсикко), почитаемые родовые деревья, похоронные обряды
Короткий адрес: https://sciup.org/14749988
IDR: 14749988
Текст статьи Сообщение К. Х. Хорнборга 1886 года о саволакских жертвенных рощах - «карсикко»
Феномен карсикко (от кар. karsikko / karzik-ko – карзать, обрубать ветки) относится к характерным, но малоизученным явлениям культуры прибалтийско-финских народов. Карсикко – это преимущественно хвойное дерево с определенным образом обрезанными ветвями или вершиной или различными вырезанными в стволе знаками – от простого затеса (выровненная топором поверхность) или зарубки до антропоморфного изображения. Дерево-знак использовалось в обрядах перехода – свадебном и похоронном, а также в календарной, рекрутской и промысловой обрядности как ритуальный символ со значениями духа-охранителя. Карсикко в обрядности представляет собой ипостась мирового дерева с функциями оберега и медиатора между мирами, маркирующего сакральные границы [3], [4], [5]. Данная статья посвящена одной из форм кар-сикко – карсикко умершего. В ее основе – развитая традиция карсикко, существовавшая в провинции Саво в Восточной Финляндии еще во второй половине XIX века.
В 1886 году в журнале «Virittäjä» была опубликована статья К. Хорнборга о саволакских кар-сикко, без ссылок на которую не обходится ни одна серьезная работа о финских карсикко. Статья, несомненно, достойна подробного анализа.
«В языческие времена, – пишет Хорнборг, – была у наших предков, у каждого рода, а позднее у каждого дома, священная роща по имени карсикко, в которую жертвовали часть всего того, что в роду или в доме добывали в течение года» [7; 93]. Если кто-либо выделялся из семьи и поселялся отдельно, то одним из первых действий на новом месте был выбор «места для кар-сикко» и сохранение от порубок небольшой рощицы из хвойных деревьев неподалеку от дома. В этой роще делали карсикко для каждого умершего в доме человека. Как только в рощице появлялось первое карсикко, там начинали приносить жертвы умершим. Жертвы, которые посвящались не конкретному лицу, а всем умершим, были разнообразны. Когда в доме забивали скот, первую чашку приготовленной еды несли в кар-сикко. Умершие получали и долю ухи, сварен- ной весной из рыбы первого улова. Осенью, когда убирали урожай зерновых, горсточку зерна от каждого сорта относили на жертвенное место, для умерших отрезали также краюху от первого испеченного хлеба из зерна нового урожая. Если в доме неожиданно появлялось больше обычного денег, то какую-нибудь мелкую монету относили в жертвенную рощу. Умерших предков поминали на все семейные и календарные праздники, относя в карсикко еду и питье, так было и с устраиваемыми после жатвы угощениями, особенно от обрядовой «каши серпа» следовало выделить полагающуюся предкам часть. Со временем, когда жертвоприношения умершим и настоящий смысл карсикко начали забываться, эти деревья стали называть «карсикко», как и особо отмеченные в память о каком-нибудь событии деревья-знаки. Первое изменение выражалось в том, что покойников уже перестали считать членами семьи, а вырубание карсикко делало невозможным их возвращение в дом вместе с несчастьями для его жителей. Второе изменение касалось детей – постепенно отказались от детского карсикко, да и из взрослых свое карсикко теперь делали только старшим – хозяину, хозяйке дома и старшему сыну в семье.
Таким образом, под влиянием христианства и просвещения священные рощи саволаксов вырождались и в конечном счете сократились до одного дерева, за которым сохранилось название «карсикко». Невдалеке от дома, как правило, на берегу озера или на обочине дороги, выбиралось дерево – по бóльшей части сосна, у которой обрубались от комля все высохшие ветки. Когда в доме умирал кто-либо из стариков или человек, чтить душу которого считалось необходимым, обрубали нижнюю живую ветку сосны и к корням дерева начинали приносить пожертвования. В дальнейшем по смерти взрослых членов семьи от карсикко каждый раз обрубали по одной ветви. Так образовался новый тип почитаемого дерева – общественное карсикко умерших.
«Когда в наше время делают карсикко, то обрезают ветки от комля на некоторое расстояние вверх и срезают в каком-нибудь месте кору – другие затесывают, выравнивают место – и вырезают знак собственности (родовой знак) умершего или умерших, годы рождения и смерти, иногда и день смерти» [7; 95]. Автор замечает, что жертвоприношения карсикко уже широко не практикуются, но до последнего времени в Северном Саво и в Карелии их можно было обнаружить. В подтверждение своих слов Хорнборг ссылается на двух «уже отошедших к предкам» стариков, от которых он почерпнул сведения. Более того, уже далеко не всегда делают карсик-ко из растущего дерева, а вырезают инициалы, годы рождения и смерти на отдельной дощечке, которую могут прибить к стене неотапливаемого помещения в доме, называя эту дощечку «кар-сикко». Так же называют и какой-нибудь большой камень около дома, на котором выбивают соответствующие знаки.
«Здесь следует назвать и еще одно карсикко, – пишет К. Хорнборг, – которое имеет отношение к почитанию умерших, а именно такое, какое отвозящие мертвого в могилу попутчики делают около дороги или на водных путях на каком-нибудь мысу. Они обрубают ветки у дерева, вырезают в нем соответствующие знаки и выпивают чарку в память об умершем. На таком дереве также оставляют одну ветку, “руку”, которая указывает обычно в сторону церкви. <…> Были ли эти карсикко и обычаи жертвоприношений ранее распространены повсеместно – этого я здесь утверждать не берусь» [7; 96–97].
Статья К. Хорнборга получила эмоционально окрашенные отзывы. В 1890-е годы немецкий этнограф Карл Рамм (Karl Rhamm) в «Глобусе» подверг резкой критике статью в целом, объявив ее не заслуживающей доверия «до тех пор, пока они (использованные в статье данные. – А. К. ) не будут подтверждены другим каким-либо способом, нежели только рассказами удивительного старика, который лучше, чем любой профессор, может своим знанием осветить сумерки отдаленного прошлого» [6; 8]. Собственно, критика К. Рам-ма указывает на первую (и главную) ошибку автора статьи – выстраивание фактического материала «под свою теорию», когда читатель уже не в состоянии понять, где кончаются «рассказы стариков» и начинаются собственные представления автора о развитии верований и сопровождающих их обрядов. Несмотря на то что, по замечанию К. Хорнборга, он только привел собранные им сведения, в его тексте не всегда можно с уверенностью отделить одно от другого. Помимо этого, автор (сознательно или нет) мог смешать действительные факты из смежных областей, на что указывает Уно Холмберг в своем исследовании о финских карсикко 1924 года: «…похоже на то, что Хорнборг мог смешать воедино различные виды почитаемых деревьев» [6; 8].
Тем не менее единственный в своем роде текст Хорнборга не был предан забвению, а продолжал цитироваться во многих работах. Так, У. Холмберг много раз возвращается к нему на страницах своего исследования о финских карсикко. Дело в том, что вопросы и споры вызывает первая часть статьи, где рисуется картина происхождения обычая карсикко и развития его дальнейших форм; что же касается второй части, где присутствует «чистый» материал, в целом подтверждаемый другими источниками, то она сомнению не подвергается. Более того, время показало, что невозможно просто отмести рассуждения К. Хорнбор-га о происхождении карсикко умершего, так как, несмотря на все новые фактические данные о кар-сикко, эти новейшие сведения вовсе не давали однозначного ответа на вопрос о верности или неверности его теории. Основных вопросов несколько, мы попытаемся ответить на один из них: могли ли составлять карсикко умерших в прошлом целые рощи, и если так, то почему они превратились в одиночные деревья?
В финском языке слово «карсикко» может означать как окарзанное дерево (дерево с обрубленными ветками), так и целый массив леса, где, например, добывается хвоя (то есть рубятся деревья или ветви деревьев) для хозяйственных нужд (в Саво [6; 8], ср. записи автора в Северной Финляндии, например, из Симо: karsikko – ‘лесной массив’ или из Куусамо: karsikko – ‘участок леса, в котором с деревьев обдирают мох для оленей’ [10; 113]). Но и ритуальные деревья-знаки, в данном случае карсикко умерших, могли составлять небольшие рощицы и даже целые рощи, в том числе на территории, где карсикко более всего известны как одиночные деревья. Так, в местечке под названием Karsikkoranta («Берег карсикко») в приходе Нурмес (северная часть провинции Северная Карелия) затесы с вырезанными в них годами смерти и инициалами (начиная с 1784 года) были в прибрежной части леса на 17 деревьях [15; 1731]. В Китее (юг провинции Северная Карелия) считали, что karsikko – это «лес, на стволах деревьев которого в прежние времена делали знаки, когда покойника везли на кладбище» (K. J. Karttunen, 1906) [16]. В Саво еще в начале ХХ века существовали «жертвенные сосняки» (uhripetäjikkö) и другие рощи карсикко [17; 69]. В местечке Пюхякангас (приход Саари-ярви, Средняя Финляндия, на границе с Северным Саво) со временем образовался обширный лесной массив – «карсикко», в котором после Второй мировой войны было 23 «дерева мертвых» [17; 70]. Ю. Лаппалайнен говорит о 28 деревьях с затесами и о гораздо бóльшем их количестве в прошлом [12; 383–384]. Известны рощи из «крестовых деревьев» и в Эстонии [18; 32, 56]. В Карелии, начиная с Приладожья и далее на восток, такими «рощами карсикко» были деревенские кладбища, на которых практически каждый погребенный имел собственный знак на дереве около могилы или при входе на кладбище.
‘Terväh meijät karzikkoh vietäh’ («Скоро нас отнесут в карсикко», то есть на кладбище), – говорили карелы в деревне Юргилице Пряжинского района1. Вероятнее всего, именно кладбищенские рощи с карсикко, особенно с учетом огромной территории их распространения (от Северной Финляндии и норвежского Финмаркена до Урала и Волги), можно считать исходной «территорией», откуда сам феномен карсикко умершего в Финляндии в виде одиночных деревьев или небольших рощ укоренился на приусадебных участках и окружающих церковное кладбище путях.
Само наличие почитаемых рощ у западных финно-угров не вызывает сомнений. Ю. Крон, описывая языческие жертвенные рощи финно-угров, обращается к некоторым имеющимся данным о хииси – средневековым жертвенным рощам, зафиксированным путешественниками в Эстонии и Южной Финляндии [11; 28–32]). По эстонским материалам, хииси были находившиеся на возвышениях огороженные участки земли, поросшие лесом, в которых происходили общественные жертвоприношения нескольких поселений. Кроме того, ими были и почитаемые рощицы около домов, куда относили все начатки: «…горсть колосьев зерновых нового урожая, первый кусок мяса, вырезанный из тела заколотого домашнего животного, первая поварешка бульона или свежего пива» и др., а также лоскут ткани, из которого начинали выкраивать одежду. Если по какой-то причине это не было соблюдено и в хозяйстве происходило несчастье, то тогда приходилось прибегать к жертвоприношению: в хииси выливали кровь от заколотой курицы или петуха [11; 30]. В наше время исследователи придерживаются мнения, что «хииси» были центрами поселенческих комплексов, в которые входили укрепления, земледельческие площади, собственно поселения и кладбища. Особо почитаемые места погребений также могли называться «хииси». Этимологически данное слово может быть связано с древнегерманским Hizi в значении «потусторонний мир» [2].
Исследователь карельской мифологии и обрядности И. Кемппинен предполагает, что кар-сикко как явление родилось «в очень ранние и примитивные времена» и что имеющие отношение к карсикко обычаи и представления отражают древние формы культа умерших [9; 45].
Карсикко возникло, предполагает Кемппинен, таким образом, что человек ранних эпох погребал своих умерших под большими деревьями, как в Приладожской Карелии происходило до последнего времени. Вследствие этого деревья превращались в священные, у них обрезали нижние ветки и под ними умершим приносили жертвы. Позднее под теми же или под ближайшими деревьями хоронили и других умерших своего рода или семьи, и таким образом формировалась священная роща, могильник, где проводили жерт- воприношения, и которую отделяли от соседнего окружения как некий остров смерти. В Прила-дожской Карелии, по этнографическим данным, могилу на кладбище старались выкопать под каким-нибудь большим деревом, и у этого дерева обрезали нижние ветви. Под этим же деревом погребали и других членов семьи или рода. Кладбище в старые времена часто находилось на острове, но когда оно было на материке, это было неприкосновенное место среди полей или на краю деревни, выделявшееся своей вековой рощей. Деревья на кладбище обычно никогда не рубили, поэтому карельские кладбища и по сей день представляют собой островки леса. Так выглядят старые кладбища и у других финно-угорских народов. Рощами с большими старыми деревьями были до последнего времени деревенские кладбища в Приладожской, а также в Олонецкой и Беломорской Карелии. Но когда христианская церковь потребовала хоронить умерших в церковной земле (это более всего относится к Финляндии), деревья-знаки и связанные с ними обряды оказались вне церковных кладбищ, переместились на обочину дорог [9; 35–36].
Как видим, Кемппинен, так же как и Хорнборг, говорит о рощах деревьев-карсикко, возникших из «памятных» деревьев родственников, ушедших в иной мир, которые переродились в кар-сикко умершего «на путях».
Карсикко умершего довольно часто встречалось у домов в Северной и Восточной Финляндии. Однако, по некоторым материалам, при строительстве дома, вырубая лес, могли оставить во дворе дерево, из которого делали «домашнее кар-сикко», не связанное с умершими. У. Холмберг выделяет его, задаваясь вопросом о том, делали ли у построенного на новом месте дома карсик-ко по тому же принципу, что и в честь впервые посетившего дом человека, но материала о подобном карсикко явно недостаточно для каких-либо теоретических выводов. Оно скорее было похоже на родовое почитаемое приусадебное дерево, но, по некоторым данным, на «домашнем карсикко» обрубались практически все ветви, не считая самой вершины, чего с почитаемыми родовыми деревьями, как правило, не производилось [6; 68]. Позднее М. Ювас опубликовала некоторые сведения, собранные ею в Северной Финляндии: «В приходе Хаапавеси (провинция Северная Похьянмаа) делали “карсикас” (karsikas) один раз – тогда, когда закладывали дом» [8; 87]. В Кит-тиля «когда новое строение заканчивали, то делали карсикко» (Jouko Paavola, 1931, Kittilä) [16,]2.
Что же касается карсикко умершего «на путях», то на территории Финляндии оно могло стать результатом эволюции других форм кар-сикко – например, промыслового [3; 87, 88] или карсикко, делавшегося на мысах, на развилках дорог или в лесу на местах стоянок или ночлега (фин. asentokuusi или севернорусск. залазь). Подоб- ные факты объединения других функций кар-сикко с «деревом умершего» зафиксированы в материалах собирателей С. Паулахарью (Лаппи), П. Виртаранта (Беломорская Карелия) и С. Валь-якка (Саво).
Еще одной формой карсикко, возможно, имевшей воздействие на данную эволюцию, были кар-сикко в Северной Финляндии и Беломорской Карелии на месте внезапной смерти, гибели человека в лесу или на воде [10; 120–122, 128, 130– 131], которые по своему виду ничем не отличались от обычного карсикко умершего.
В любом случае предполагаемое превращение кладбищенской по сути жертвенной рощи со множеством деревьев-карсикко в одно-единст-венное дерево, по нашему мнению, невозможно объяснить лишь воздействием просвещения (по Хорнборгу) или деятельностью служителей церкви (по Кемппинену; более обобщенно говорит об этом Я. Вилкуна, но и он привязывает этот процесс к распространению протестантизма [18; 162]). Данные факторы, несомненно, играли свою роль, но традиция, если она в той или иной форме продолжается, живет по своим законам, и логику изменяющихся представлений прежде всего следует искать в ее собственной мировоззренческой структуре.
Система «дорожных карсикко», которые по разным поводам делались в окружающем человека пространстве, была инструментом освоения окружающего мира, структурировала его, обозначая материальные и мифологические границы. Она создавала условия для включения в нее в нашем случае карсикко умершего, и поэтому в том, что в определенный исторический период какая-то из форм карсикко умершего внутри данной общей структуры получала особое развитие или происходил процесс соединения разных функций с точки зрения совокупной структуры, направленной на освоение пространства, нет ничего неожиданного.
Любой ритуальный символ многозначен, и если рассматривать карсикко умершего в том же Саво не только (и не столько) как инвариант намогильного знака, а как знак обозначения пути, дороги умершего, необходимой вехи для перехода в иной мир, то в происхождении обсуждаемой формы карсикко умершего «на путях» появляется своя логика. В любом случае карсикко около дороги играло существенную роль в процессе постепенного перехода души в потусторонний мир, а связанные с ним представления и обычаи способствуют пониманию того места, которое занимало карсикко в обрядах перехода в целом.
Список литературы Сообщение К. Х. Хорнборга 1886 года о саволакских жертвенных рощах - «карсикко»
- Википедия: словарь [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://fi.wikipedia.org/wiki/Hiisi
- Конкка A. П. Карельское и восточнофинское карсикко в кругу религиозно-магических представлений, связанных с деревом//Этнокультурные процессы в Карелии. Петрозаводск: Карельский филиал АН СССР, 1986. С. 85-112.
- Конкка A. Освоение жизненного пространства: панозерские карсикко//Панозеро: сердце Беломорской Карелии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2003. С. 214-230.
- Конкка А. П. «Карсикко» в обрядах и представлениях финно-угорского населения Северной Европы//Традиционная культура. 2009. № 3. С. 32-38.
- Holmberg U. Suomalaisten karsikoista//Kalevalaseuran vuosikirja 4. Helsinki: SKS, 1924. S. 7-82.
- Hornborg K. H. Karsikoista//Virittaja. Helsinki, 1886. S. 93-97.
- Juvas M. Lisatietoja karsikoista ja hurrikkaasta//Sanakirjasaation Toimituksia 1. Helsinki, 1931. S. 79-89.
- Kemppinen I. Haudantakainen elama karjalaisen muinaisuskon ja vertailevan uskontotieteen valossa. Karjalan tutkimusseuran julkaisuja 1. Helsinki, 1967. 224 s.
- Konkka A. Kuusi kultalatva. Pohjoisen Suomen karsikoista/Kalevalaseuran Vuosikirja 77-78. Helsinki, 1999. S. 112-139.
- Krohn J. Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus. Helsinki: SKS, 1894. 194 s.
- Lappalainen J. T. Pyhakankaan karsikko tanaan//Saarijarven kirja. Pieksamaki, 1963. S. 383-392.
- Perttu P. Vainamoisen venehen jalki. Karjala-kustantamo. Petroskoi, 1978. 240 s.
- Sarmela M. Suomen perinneatlas. Suomen kansankulttuurinkartasto kartasto 2//Atlas of Finnish Ethnic Culture 2. Folklore. SKST 587. Helsinki, 1994. 259 p.
- Suomen Kuvalehti. 1929. № 39.
- Suomen murteiden sanakirjan arkisto (SMSA). Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki.
- Valjakka S. Lisia Savon karsikoihin//Kotiseutu. 1949. № 4. S. 68-71.
- Vilkuna J. Suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut/Kansatieteellinnen Arkisto 39. Helsinki, 1992. 210 s.