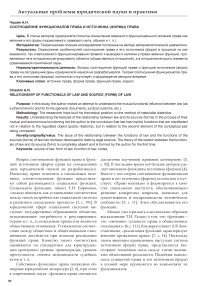Соотношение функционалов права и источника (формы) права
Автор: Чашин Александр Николаевич
Журнал: Евразийская адвокатура @eurasian-advocacy
Рубрика: Актуальные проблемы юридической науки и практики
Статья в выпуске: 3 (40), 2019 года.
Бесплатный доступ
Цель: В статье автором предпринята попытка осмысления взаимного функционального влияния права как явления и его форм (нормативного правового акта, обычая и т. п.). Методология: Теоретическая позиция исследователя построена на методе материалистической диалектики. Результаты: Осмысление особенностей соотношения права и его источников (форм) в процессе их как взаимного, так и автономного функционирования привело к выводам о наличии у права неявных функций, проявляемых не в отношении регулируемого объекта (общественных отношений), а в отношении второго элемента сравниваемой понятийной пары. Новизна/оригинальность/ценность: Вопрос соотношения функций права и функций источников (форм) права на сегодняшний день юридической наукой не разрабатывался. Теория соотношения функционалов права и его источника (формы) полностью отсутствует и формируется автором впервые.
Источник права, форма права, функция права, кодекс
Короткий адрес: https://sciup.org/140244638
IDR: 140244638
Текст научной статьи Соотношение функционалов права и источника (формы) права
Вопрос соотношения функций права и функций источников (форм) права на сегодняшний день юридической наукой не разрабатывался. Поскольку право относится к социальным явлениям, соответствующие функции представляют собой разновидность социальных функций. Социальную функцию, пишет Т.Н. Бирюкова, «можно понимать как установление соответствия между некой потребностью социальной системы и развитием социального процесса» [1, с. 191]. В юридической сфере социальной системой выступает государственно образованное общество, испытывающее потребности в регулировании, охране и т. п., а социальным процессом являются общественные отношения. Установление соответствия между обществом и общественными отношениями достигается при помощи реализации функций права. Качество такого соответствия оценивается по стандартным для юриспруденции критериям: уровень правопорядка, уровень преступности, степень исполнимости судебных актов и т. п.
Собственно функциям права посвящена обширная юридическая литература [2, 6], при этом в современной науке «функции права считаются codex.
достаточно изученной правовой категорией» [3, с. 92]. В последнее время всё больше авторов уделяет внимание функциям источника (формы) [4]. Вместе с тем теория соотношения функционалов права и его источника (формы) полностью отсутствует. «Право возникает и формируется в качестве социального института, обеспечивающего решение конкретных вопросов, значимых для существования и воспроизводства человеческих сообществ» [5, с. 11]. Этим обуславливаются его функции.
Можно уже признать классическим образное высказывание Т.Н. Радько о том, что «функции – это «свечение» сущности права в общественных отношениях» [6, с. 111]. Как верно пишет А.В. Константинова, «реализация функций характеризует внешнее проявление права» [7, с. 14]. Поскольку таким внешним проявлением выступает система источников (форм) права, представляется бесспорной теснейшая связь между этими явлениями объективной реальности. Подобная взаимосвязь сущностей права и его источников (форм) в полной мере проявляется во взаимосвязи их функционалов.
Несмотря на продолжающуюся дискуссию относительно определения, оснований классификации, а также видов функций права, в целом юридическое сообщество сходится во мнении о необходимости выделения, как минимум, следующих основных функций права: регулятивной, охранительной, воспитательной. Такой позиции, с незначительными нюансами, придерживаются проф. К.К. Гасанов [8], проф. Д.А. Пашенцев [9], проф. М.И. Байтин [10] и др. [11, с. 28].
Соотношение функционалов права и его источников (форм) сводится к следующим вариантам.
Во-первых, и это, пожалуй, если не главное, то самое изначальное: никакая функция не может исполняться несуществующим правом. Такой тезис представляется аксиоматичным: нет объекта – нет и проявления его функций. Не могут проявляться функции несуществующего объекта. Право не является исключением – оно функционирует только в том объеме, в котором объективно существует. Другое утверждение, хотя и не аксиоматического уровня, но зато на уровне теоремы неоднократно доказанное и никем пока не убедительно не опровергнутое: право существует, объективируясь в своих источниках (формах). Правовая норма не существует вне источника (формы) права. Она же существует, когда содержится в одном из таких источников (форм): нормативном правовом акте, договоре нормативного содержания, судебном прецеденте, правовом обычае и т. д. Сам процесс объективации права (отдельных его норм, а равно их совокупности того или иного объёма) в конкретном источнике (форме) права представляет собой проявление одной из функций последнего, а именно его генеральной функции – функции сосредоточения правовых норм. Таким образом, генеральная функция источника (формы) права запускает функционирование облекаемого им права. Отсутствие этой генеральной функции (по техническим соображениям либо в результате разного рода дефектов юридической техники) полностью либо частично блокирует функционирование самого права.
Так, например, принятый законодателем закон как источник (функция) права не функционирует до момента его вступления в силу. В период с момента принятия этого нормативного правового акта до момента его вступления в силу в нем содержатся статьи, но нет правовых норм, потому что сосредоточением собственно права закон становится в момент его вступления в силу. Именно в этот момент нормы права вливаются в статьи закона и начинают выполнять свои функ- ции. До этого момента в законе нет ни права, ни его отдельных норм, хотя статьи закона, безусловно, в нем имеются. Сам этот документ, не вступивший в силу, нельзя охарактеризовать как нечто, не являющееся законом. Он закон. Но до момента вступления в силу – не источник права. Не вступивший в силу закон признать источником права невозможно. Здесь можно опереться на научную позицию, согласно которой «форма права (forma iuris) может выступать в трёх аспектах, а именно в качестве: 1) средства документального выражения норм старого (недействующего в данный момент времени) права (ius vetus); 2) средства познания, восприятия и запоминания норм современного (действующего) права (ius novus); 3) формального (формализованного) средства объективного отражения действующего позитивного права…» [12, с. 25]. В процитированном теоретическом подходе обоснованно отсутствуют источники какого-либо будущего права.
В изложенном ключе представляется ошибочным высказывание А.С. Селиванова, полагающего, будто «право как явление даже тогда, когда оно не функционирует, обладает основными функциями» [12, с. 25]. Само допущение некоего права, которое может существовать, но не функционировать, не выдерживает критики. Даже если взять во внимание случаи, когда некоторые из статей нормативных правовых актов и, соответственно, содержащиеся в них правовые нормы не реализуются (т. е., к примеру, не применяются судьями для обоснования выносимого решения, не используются сторонами при формировании текста частного договора и т. п.), то здесь нет фактов нефункционирующего права. Право функционирует не только при его реализации. Само существование любой правовой нормы подразумевает некое количество субъектов, ознакомленных с её содержанием. Как минимум, это сам законодатель, в настоящее время почти всегда коллективный. Знание правовой нормы уже представляет собой реализацию ориентирующей функции и функции государственной оценки. Поэтому включение права в соответствующий действующий источник (форму) всегда инициирует функционирование этого права. Здесь имеет место реализация функций права в форме информационного и ориентационного воздействия [14, с. 59 –82]. А вот интенсивность и последствия этого функционирования уже зависят от активности субъектов правоотношений.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что функционал права вводится в действие через 91
генеральную функцию источника (формы) права – функцию сосредоточения правовых норм.
Во-вторых, право функционирует не только в направлении общественных отношений, но и в направлении собственных источников.
Осмысление особенностей соотношения права и его источников (форм) в процессе их как взаимного, так и автономного функционирования привело к любопытным выводам о наличии у права неявных функций, проявляемых не в отношении регулируемого объекта (общественных отношений), а в отношении второго элемента сравниваемой понятийной пары. Так, например, юридическая сила – это признак права. Для отечественного правоведения традиционной является привычка сращивать силу права и силу закона (т. е. основного источника (формы) права). Более того, нередко право и закон в теории носят синонимичный смысл [15, с. 118]. Как отмечает профессор Л.А. Морозова, «в большинстве международных и внутригосударственных актов, в теоретических исследованиях как отечественных, так и зарубежных юристов, под верховенством права понимается верховенство именно закона» [16, с. 14]. Причина тому, как нам представляется, кроется вовсе не в непонимании того, какому именно из исследуемых явлений следует приписывать признак юридической силы: собственно праву или же его источнику (форме). Выявленное представление о юридической силе детерминировано особенностями проявления юридической силы, которая, являясь признаком права (конкретного блока его норм), одновременно выполняет определенную служебную роль по отношению к конкретному источнику (форме) права. А это уже, не более и не менее, как функционирование. Как верно пишет О.Ю. Кузьмицкая, «сила права – это сила самого государства, которая приобретает выражение в правовых нормах и благодаря этому позволяет раскрыть социальную сущность права, позволяет и правоприменителю, и законодателю, и научному работнику, любому человеку понять возможности, заложенные в самом праве как институте, регуляторе общественных отношений» [17, с. 412]. Здесь идет речь о силе права как его же признаке. Одновременно источники (формы) права выстраиваются в определенную иерархию в зависимости от юридической силы сувереном (каковым является субъект, формулирующий общую волю [18, с. 149]). Это юридическая сила не самого источника права, а правовых норм, в нём содержащихся. Но что выстраивает источники (формы) права в иерархию? Ответ очевиден: само право. Нормы Конституции
РФ определяют её юридическое верховенство в системе национального законодательства, а также наделяют большей юридической силой федеральные конституционные законы над федеральными законами и т. п. При этом на первый план выходит юридическая сила не как свойство права, а как его функция, распределяющая отдельные источники (формы) права от доминирующих к подчиненным. В то же время, получив своё место в системе источников (форм) национального права, определенный, весьма конкретный источник права (к примеру, Трудовой кодекс РФ) получает способность содержать в себе только такие нормы права, которые по юридической силе слабее конституционных, но сильнее ведомственных норм. Не выполняй право через юридическую силу описываемую функцию, отдельные источники (формы) права не могли бы быть отличны один от другого по своей силе и действовали бы в абсолютной конкуренции. При этом пирамидальная иерархия нормативных правовых актов (возьмём для простоты примера только их, временно игнорируя прочие источники (формы) права) становится невозможной, а система национального законодательства предстает перед субъектами правоотношений сплошным равномерным слоем нормативного материала, покрывающего общественные отношения. Причем толщина такого покрытия будет равняться ровно одной правовой норме, так как никакая норма не сможет надстроиться ни над какой прочей. Очевидно, что это не так. Современное государственно организованное общество успешно и порой довольно сложно умеет структурировать источники (формы) своего права. Неточной в рассматриваемом ключе представляется позиция, согласно которой «важнейшим свойством источников права является их иерархичность, благодаря чему они и внешне выражают, и организуют, структурируют государственную волю» [19, с. 394]. Согласиться с этим трудно. Даже если не обращать внимания на то обстоятельство, что иерархичность есть свойство системы, а не её элементов, всё-таки очевидно, что эту иерархию выстраивает суверен при помощи соответствующей совокупности правовых норм, в частности: ч. 1 ст. 15, ст. 76 Конституции РФ, Закона «О нормативных правовых актах Республики Беларусь» и т. п. Поэтому никакого свойства иерархичности у источников (форм) права нет, иерархичность их системе придает законодатель через нормативно-правовое регулирование.
Абсолютно все проводимые ранее исследования в области функций права в качестве предмета рассматривали функциональный вектор, исходя- щий из права по отношению к регулируемым им общественным отношениям. Однако выявленная способность права структурировать собственные источники (формы), т. е., по сути, трансформировать свои границы, наглядно свидетельствует о наличии у него соответствующей функции. Такая функция незаметна, если не рассматривать взаимодействие (а не только соотношение) таких явлений, как право и источник (форма) права. Представляется, что для ученых, специализирующихся в исследованиях функций права, в этом направлении открываются новые перспективы.
Итак, второй вариант взаимного влияния права и его источников (форм) представляет собой зеркальное отражение первого варианта. Теперь уже право, порождая, формируя, структурируя, запрещая те или иные из своих источников (форм), порождает, изменяет (сокращает, расширяет, перераспределяет) функционал источников (форм) права. Современное право, чрезвычайно усложнившееся в своей системе, структуре и проявлениях, самим своим массивом затемняет подобные проявления. Однако на заре государственно-правовой жизни проявление описываемой функции права более заметно. Так, многие древнейшие письменные источники права (Законы Ману, варварские правды и т. п.) представляют собой фиксацию сложившейся судебной практики и обычаев. Очевидно, что доминирующим, а, возможно, и единственным, источником права для многих народов в периоды становления их государственности являлся обычай. Запись этих обычаев посредством формирования монархом нормативного правового акта порождает новый, ранее не известный (не применяемый) источник (форму) права. С этого момента запускаются функции этого нового источника (формы) права. Здесь уже право через своё функционирование инициирует функционирование своих источников (форм). В этом ключе верным следует признать высказывание, согласно которому «не только содержание права под воздействием окружающей среды влияет на форму права, но и форма оказывает обратное воздействие на систему правил поведения, составляющих содержание права, создавая условия для стабилизации, закрепления и совершенствования» [20, с. 149]. Действительно, право в процессе своего функционирования воздействует на свои источники (форму), в том числе зарождая их как объекты (причем как видовые явления, т. е. нормативный правовой акт, судебный прецедент и т. п., так и как отдельные реальные объекты: Уголовный кодекс РФ, Федеративный договор и т. д.), при этом постоянно испытывая на себе воздействие генеральной функции источника (формы) права (каждый из которых, порождаемый правом как отдельный объект, вступая в силу, инициирует функционал той части права, которую содержит в себе).
В-третьих, ряд функций права и его источников (форм) не пересекаются между собой. Представляется, что вполне автономно действуют источники (формы) права в процессе реализации таких собственных функций, как разграничительная, легитимации и объективации. Точно такую же автономию право проявляет в своих основных функциях: регулятивной, охранительной и воспитательной.
Следует отметить теоретические позиции, допускающие смешение рассматриваемых функционалов. Так, А.В. Мещерякова, весьма убедительно и с опорой на мнение С.С. Алексеева разграничивающая функции права и функции закона, приходит к спутанному мнению о том, что «закон как правовой акт призван и выполняет функции права» [21, с. 55]. Подобное заблуждение (сразу и без обиняков оценим выявленную научную позицию именно так) не единично. К примеру, О.Н. Коваленко, хотя прямо и не заявляет об этом, но косвенно приписывает закону (в данном случае – уголовному) функционал права (тоже уголовного) [22]. При этом О.Н. Коваленко широко ссылается на позиции авторов, которые думают не так, как он, а диаметрально противоположным образом, ведя речь именно о праве (его нормах). Н.П. Шайхутдинова полагает, что «основной функцией локальных нормативных актов… как любых других актов, содержащих нормы права, является функция правового регулирования» [23, с. 209]. Процитированным автором демонстрируется явное недопонимание регулятивной функции права, которая присуща нормам права, а не актам, их содержащим. Как верно пишет А.В. Корнев, «по природе своей право есть нормативный регулятор, его социальное назначение проявляется в регулировании жизненных процессов, т. е. в сознательной организации порядка, его поддержании, сохранении и защите ради определенных, признанных культурным сообществом целей» [24, с. 96]. Следует полностью согласиться с таким подходом: регулятором является именно право (совокупность его норм), а не закон либо иной источник (форма) права.
А.Ю. Гарашко и Д.С. Давидов переносят весь функционал права, а заодно и правоохранительных органов, на любые его источники (формы). Они пишут, что «источники права выполняют ряд функций: …выступают правовой основой…, обеспечивают правопорядок и законность…» [25, с. 10] и т. п. Очевидно, что правовой базой выступают правовые нормы, а правопорядок и законность обеспечивают судебная система и система правоохранительных органов. Подобное заблуждение наблюдается и вне рамок российской науки. Так, украинский правовед П.О. Гвоздик полагает, что «источники права (законы и иные нормативно-правовые акты) выполняют различные регулятивные функции» [26, с. 139]. Такая позиция порождает ряд самостоятельных, крупных и непреодолимых противоречий.
Первое: если функции права выполняет закон, то у права не остается своих функций, а потому оно утрачивает собственную сущность как явление. В результате из юриспруденции надлежит понятие права вовсе исключить, либо заменив его законом, либо полностью отождествив с ним.
Второе: если функции права выполняет закон, то есть ли у него свои собственные, не заимствованные у права функции? Если нет, то и права нет, а если есть, то право следует признать частью либо разновидностью закона, но в этом не угадывается никакого смысла.
Третье: если функции права выполняет закон, то кто выполняет его имманентные функции? И как при этом функционирует право? Напрашивается заведомо недостоверный вывод о том, что, с позиций А.В. Мещеряковой, право выполняет функции закона. При такой игре научного воображения право и закон меняются своими функционалами (если, впрочем, исключить их полнейшее отождествление).
Поскольку закон есть вид нормативного правового акта, т. е. основной источник (форма) права для государств романо-германской правовой семьи, то следует признать, что А.В. Мещерякова ведет деятельность по ослаблению теории источника (формы) права. Если её позицию признать верной по отношению к закону, то нет существенных препятствий для теоретического обобщения на все прочие виды источников (форм) права. Восприятие такой позиции приведет к полнейшему отмиранию учения об источниках (формах) права, к чему в настоящее время не имеется никаких обоснованных предпосылок. Со своей стороны, считаем, что, конечно же, закон выполняет не функции права, а свои собственные функции – источника (формы) права. А право, которое содержится в конкретном законе (и во всей совокупности национальных законов), выполняет свои собственные функции.
В-четвертых, некоторые из функций права и его источников (форм) сближаются настолько, 94
что их действие возможно только в теснейшей и неразрывной взаимосвязи. При этом в функционале источника (формы) права в такую тесную связь вступает информационно-обеспечительная функция. Она срастается с такими функциями, как государственная ориентация участников общественных отношений и мотивационная. Под государственной ориентацией понимается «направление поведения участников общественной жизни на достижение позитивных целей» [27, с. 118]. Как отмечает С.В. Липень, «одна из постоянных задач юриспруденции – изучение… мотивации принятия решений…» [28, с. 28]. Накопленный в ходе такого изучения массив знаний трансформируется в содержание конкретных правовых норм, доводимых до субъектов правоотношений через тексты отдельных статей нормативных правовых актов, формируя потенциал их мотивирующего воздействия. «Мотивационная функция правовых норм позволяет законодателю учитывать побудительные свойства норм права и возможности их влияния на волю и сознание людей, на их поступки, адекватные целям и задачам, поставленным нормами права» [28, с. 28]. Причина сращивания трёх перечисленных функций заключается в том, что как ориентация, так и мотивация возможны только через информирование управляемых субъектов. Информация, содержащаяся в текстовом формате в конкретном источнике (форме) права, воспринимается адресатом правового воздействия, который в результате получает: более или менее сильный психологический импульс, мотивирующий их на правомерное поведение (например, формирование чувства страха в процессе восприятия о санкции правовой нормы через прочтение соответствующей статьи уголовного закона), и (или) определенный, заранее заложенный в процессе правотворчества в юридический текст, объём информации, демонстрирующей императивные, диспозитивные либо рекомендательные указания государства по поводу общественно-полезного поведения.
Так, например, А.С. Кравцов пишет: «ст. 3.2 КоАП РФ информирует, что за совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания…» [29, с. 38–39]. С этим следует согласиться: кодекс (т. е. источник (форма) права) именно информирует о содержащихся в нём нормах права и, в совокупности с ними, оказывает ориентирующее и мотивационное воздействие на субъект правоотношения.
Как верно отмечает А.В. Константинова, «любой из видов правовой информации, доходя до адресата (личности), оказывает на него определенное воздействие. Причём именно с момента получения информации начинается правовое воздействие, то есть это первый (начальный) этап реализации функций права» [7, с. 67]. Продвижение правовой информации от источника (формы) права к адресату возможно как непосредственно, так и опосредованно. Первый вариант представляет собой восприятие (чтение, слушание) текста, который содержит в себе конкретный источник (форма) права. Второй вариант проявляется в различных видах: официальном (например, ознакомление с содержанием правовых норм через ознакомление с содержанием судебного акта); официозном (уяснение содержания правовых положений через разъяснения официозного характера); неофициальном (восприятие информации о праве через средства массовой информации, произведения искусства, частное общение). Процесс такого восприятия правовой информации обеспечивается тандемом функций «информационно-обеспечительная / государственная ориентация участников общественных отношений», либо «информационно-обеспечительная / мотивационная», либо тремя функциями одновременно (в случаях, когда личность усваивает одновременно информацию смешанного, ориентирующе-мотивационного содержания).
Изложенное выше подробно описывает основные варианты соотношения основных функций права и функций его источников (форм).
Список литературы Соотношение функционалов права и источника (формы) права
- Бирюкова Т.Н. Соотношение рационалистического, функционального и гуманистического подходов в социальном управлении // Экономика и управление. 2007. № 4. С. 189-192.
- Радько Т.Н. Теория функций права: монография. М.: Проспект, 2014.
- Кирдяшова А.С. Анализ использования в советской юридической науке категории «функции права» // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2007. № 9. С. 90-92.
- Гаджинова Ф.М. Источники права и их система в современном мире: дис. … канд. юрид. наук. М.: РУДН, 2004.
- Веденеев Ю.А. Антропология права: между социокультурными традициями и нововведениями // Lex Russica. 2016. № 9. С. 9-26.
- Радько Т.Н. Методологические вопросы познания функций права. Волгоград: НИиРИО ВСШ МВД СССР, 1974.
- Константинова А.В. Формы осуществления фун-кций права: дис. … канд. юрид. наук. Челябинск: Южно-Уральский государственный университет, 2014.
- Гасанов К.К. Социальная роль и функции права и его принципов в свете неотчуждаемости основных прав человека // Вестник Московского университета МВД России. 2012. № 5. С. 14-17.
- Пашенцев Д.А. Теория функций права в контексте современной методологии // Государство и право. 2016. № 9. С. 87-90.
- Байтин М.И. О принципах и функциях права: новые моменты // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2000. № 3. С. 4-16.
- Губайдуллин А.Р. Функции права и правовой системы общества // Ученые записки Казанского университета. 2013. Т. 155. Кн. 4. С. 27-36.
- Спирин М.Ю. Соотношение истока права, источника права и формы права с позиции волевой концепции правообразования // Юридический вестник Самарского университета. 2018. Т. 4. № 1. С. 23-28.
- Селиванов А.С. Некоторые аспекты соотношения функций права и функций ненормативного правового акта // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. 2015. № 13-2. С. 104-105.
- Радько Т.Н., Толстик В.А. Функции права. Н. Новгород: НВШ МВД РФ, 1995.
- Корнев А.В. Свобода и право: соотношение понятий // Lex Russica. 2015. Т. 101. № 4. С. 113-118.
- Морозова Л.А. О содержании верховенства права // Государственный суверенитет и верховенство права: международное и национальное измерения. II Московский юридический форум (Кутафинские чтения): материалы круглых столов. М.: Проспект, 2015. С. 13-19.
- Кузьмицкая О.Ю. Юридическая сила - сила права // Общая теория права: история и современное состояние (к 110-летию А.И. Денисова): монография / отв. ред. М.Н. Марченко. М.: Проспект, 2018. С. 396-413.
- Завьялов Ю.С. Экзистенциальное «Я» и право // Lex Russica. 2017. № 9. С. 148-155.
- Михнева С.В., Бузаева С.Ш. Источники современного российского права// Научные исследования и современное образование: сборник материалов II Международной научно-практической конференции. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2018. С. 393-396.
- Коваленко Е.К., Фарои Т.В. Соотношение понятий «источник права» и «форма права» // Социально-гуманитарный вестник. Всероссийский сборник научных трудов. Краснодар: Краснодарский центр научно-технической информации, 2018. С. 148-150.
- Мещерякова А.В. Понятие «функция закона» в современной теории права // Теория и практика общественного развития. 2018. № 2. С. 53-55.
- Коваленко О.Н. Значение качества уголовного закона РФ для реализации функций уголовного права // Экономика, социология и право. 2018. № 1. С. 20-23.
- Шайхутдинова Н.П. Функции локальных нормативных актов трудового права // Вестник Удмуртского университета. Серия: Экономика и право. 2014. № 3. С. 209-212.
- Корнев А.В. Нравственные основания права в трудах Г.В. Мальцева // Нравственное измерение и человеческий потенциал права / отв. ред. В.М. Артёмов. М.: Проспект, 2017. С. 95-104.
- Гарашко А.Ю., Давидов Д.С. Источники права как нормативно-правовое основание образа государственной власти // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 8. С. 9-12.
- Гвоздик П.О. Органiзуюча функцiя джерел екологiчного права // Науковий вiсник НУБiП України. Серiя: Право. 2012. № 173-2. С. 139-144.
- Радько Т.Н. Проблема, требующая решения // Развитие российского права: новые контексты и поиски решения проблем. III Московский юридический форум. Х Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения): материалы конференции: в 4 ч. Ч. 1. М.: Проспект, 2016. С. 116-119.
- Липень С.В. Экономический анализ права в системе методов юридической науки // Право и экономика: междисциплинарные подходы в науке и образовании. IV Московский юридический форум. XII Международная научно-практическая конференция (Кутафинские чтения): материалы конференции. В 4 ч. Ч. 1. М.: РГ-Пресс, 2017. С. 26-28.
- Информационная функция Кодекса об административных правонарушениях // Вестник Луганской академии внутренних дел имени Э.А. Дидоренко. 2017. № 2. С. 28-41.