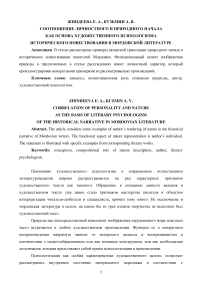Соотношение личностного и природного начала как основа художественного психологизма исторического повествования в мордовской литературе
Автор: Жиндеева Е.А., Кузьмин А.В.
Журнал: Огарёв-online @ogarev-online
Статья в выпуске: 8 т.5, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассмотрены примеры авторской трансляции природного начала в историческом повествовании писателей Мордовии. Функциональный аспект изображения природы в предложенных в статье рассуждениях имеет личностный характер, который проиллюстрирован конкретными примерами из рассматриваемых произведений.
Короткий адрес: https://sciup.org/147249469
IDR: 147249469 | УДК: 821.511.152
Текст научной статьи Соотношение личностного и природного начала как основа художественного психологизма исторического повествования в мордовской литературе
Понимание художественного психологизма в современном отечественном литературоведении широко распространяется на ряд характерных признаков художественного текста как такового. Обращение к описанию данного явления в художественном тексте уже давно стало признаком мастерства писателя и объектом интерпретации читателя-любителя и специалиста, причин тому много. Не исключение и мордовская литература в целом, на каком бы из трех языков творчества не выполнен был художественный текст.
Природа как непосредственный компонент изображения окружающего мира довольно часто встречается в любом художественном произведении. Функции ее в конкретном воспроизведении напрямую зависят от авторского замысла и воспринимаются в соответствии с сюжетообразованием или как вставные конструкции, или как необходимая детализация, которая представляет собой прием психологизации в произведении.
Психологизация как особая характеристика художественного целого, позволяет рассматривать внутреннее состояние центрального персонажа в соответствии с совокупностью изображения природных явлений с позиций возможной идентификации. Таким образом, внимание к душевным состояниям, их изменениям, характерным обстоятельствам проявления тех или иных рефлексивных поведенческих мотивов и соотношение изменений в природе – основа классической формы психологизма, широко распространенной в мордовской современной литературе. Так, в значительной степени в современной мордовской литературе природа, с одной стороны, изображается как подтверждение органичности чувств, характеров, обстоятельств, с другой – результат размежевания с ней ассоциируется у автора, а вслед за ним и у читателя с катастрофичностью бытия. В этом смысле М. Брыжинский, автор повести «Ради братий своих» не выходит за рамки национальных истоков. Мордовское устное народное творчество воссоздает образ природы как эквивалент совершенства и гармонии, что и транслирует автор в описание своей главной героини. М. Брыжинский не случайно делает сравнения с природными явлениями, говорит о Марии как о части природы. Автор прибегает к интереснейшему, на наш взгляд, приему: он делит жизненный путь своей героини на четыре этапа. Это то время, когда девушка была свободна и жила с отцом и дедом; период замужней жизни, когда, выйдя замуж за крепостного, она сама стала крепостной; ее жизнь в монастыре; наша героиня - предводитель крестьянского отряда. В связи с этими этапами изменяется и имя - Мария в девичестве, Марья замужем, при постриге - Алена и, наконец, Алена Арзамасская-Темниковская - во главе большого крестьянского войска.
В начале повести Мария свободна, радостна. Она счастлива: у нее есть отец, дед, любимый. На душе легко и светло. И описание природы сродни чувствам героини. «Вечер опускался осторожно и нежно» [3, с. 14]. Произошедшее горе изменяет Марию до неузнаваемости. Безмерно оно: потеряла она и мужа, и сына, и отца. Вторит ее горю земля родная: «Тучи заволокли небо. Сразу стало темно, холодно, пусто» [2, с. 104].
Совсем по-иному описывается природа после того, как Алена поднимает бунт против несправедливости и угнетения. Вместе с героиней природа страдает, бунтует и ищет выхода из создавшегося положения: «Разразилась великая гроза. Дождь смывал со своего пути все» [2, с. 159 - 160].
Символичны и описания животных в произведениях. В данном тексте быстрый бег коня воспринимается читателем как ничем не ограниченная свобода, стреноженный конь на лугу - как безмятежный покой и отдых. Согласно авторскому замыслу и восприятию действительности животное становится эквивалентом отношения героя и автора к его владельцу или хозяину: «Жеребец ходил вокруг Пургаза и смачно хрумкал сочной травой. Время от времени он поворачивал голову к лесу, прядал ушами и тихо ржал, чувствуя там, в лесу, других лошадей, которые паслись на лесных полянах. Пургаз посмотрел на звездное небо - время близилось к полуночи. Должны бы пропеть первые петухи, но в городке было тихо» [1, с. 296]. Конь разделяет нетерпение и ожидание хозяина, о жеребце автор говорит с уважением, через него характеризуя владельца. Есть и совершенно противоположные описания животных. Например, господская свинья в повести М. Брыжинского «Ради братий своих». Та самая свинья, которая съела крошку-сына главной героини - Марьи. В образе свиньи объединяется очень многое: и ее огромная власть над крепостными людьми (только потому, что она господская); связь этого животного со своим хозяином (слишком они похожи друг на друга). Описания действий этого животного не случайны. Они не оставляют сомнений в антикрепостнической направленности этого произведения. Однако не только это заставляет прибегнуть писателя к столь изощренной уродливости, неестественности жизни. Автор прибегает к подобным описаниям и трактовке не случайно. Для него важны не только единичность случая (а таковые известны истории в целом), но и некоторая их обыденность, не имеющая ничего общего с гуманностью и эстетизмом. Это некая психологическая деталь эпохи, соотнесенная с общим колоритом жизни бедных людей того времени.
Думается, что именно с позиций психологического анализа текста необходимо рассматривать и образ коровы в этой повести: «Коровушка - матушка, кормилица наша», - именуют ее крестьяне. После того, как Алена увидела, что келарница монастыря, где Марья приняла постриг, клеймит украденную у крестьянина корову, наступило прозрение героини повести М. Брыжинского. «И тут она вдруг поняла - келарница и немой Васяй метили монастырским тавром приведенный нынешней ночью «темный скот». Гнев захлестнул горло Алены. «Что делается! - ужаснулась она. - Как же они могут?! Ведь эта корова, может, единственная кормилица семьи. Как же теперь ребятишки? - Она представила, как хозяйка утром выходит подоить свою кормилицу, а видит настежь раскрытые ворота и пустой двор. Представила, как на ее крик сбежалась вся семья, плачущих ребятишек, растерянного, мечущегося хозяина» [2, с. 64].
Передавая эту драматическую сцену в повести, автор сосредоточивает наше внимание на характере героини. Практичный крестьянский ум помогает Алене разобраться в происходящем, горячее, справедливое сердце не позволяет ей дальше жить так, как будто ничего не произошло. Вероятно, автор не случайно показывает близость героини с природой, которая так незаурядно изображена на протяжении всего повествования. Особенно ярко это передается в сцене собирания трав и врачевания главной героини: «Как ни тяжело было Алене одной управляться, но она все же выкраивала время и иногда уходила в лес и бродила там одна» [2, с. 26].
Таким образом, совмещая национальный колорит и близость героини к природе, автор показывает особенности характера Алены. Эта гордая, трудолюбивая женщина, знающая некоторые секреты природы, пришедшие к ней от ее бабушки, находит в себе силы и впоследствии несгибаемо стоит за правое дело.
Одним из принципиально важных ракурсов изображения природы в художественном тексте является сокровенно-любовное отношение к ней, свойственное практически всем писателям. Пейзажная живопись в литературе весьма распространена и практически всегда демонстрирует патриотический настрой писателя. Такие примеры имеют место и в исследуемых текстах: «Нет конца лесу, наполненному птичьим гомоном и тихим шелестом листьев. И Пургаз только теперь понял, что все эти годы тосковал именно по лесу, и по этому лесу, через который шла неширокая извилистая дорога с примятой колесами и копытами муравой, со следами конского помета и плотными листьями подорожника по обочинам. Сколько раз ходил он по этой дороге, приминая ее босыми пятками! Сколько раз проезжал, сидя в телеге с дедом Обраном, с дядьями, братьями! И всегда радовался этому лесу, любовался им, восхищался. Нет, такого леса не увидишь больше нигде – ни в арабских землях калифа, ни в булгарских землях хана. Здесь не палит солнце, как в Багдаде, не шумит базарная разноголосица, как в Великом городе. Это лес, и у него свои обычаи – спокойно и без суеты нести миру вечное обновление.
Теперь и сам Пургаз не понимал, как он мог столько лет прожить в чужой земле и не умереть от тоски. Он глубоко, всей грудью вдохнул свежий лесной воздух, и всего его существо наполнила сладкая радость» [1, с. 191 - 192].
Многоплановый, многосторонний характер изображения природы дает возможность детально воспроизвести не только чувственный мир героя, но документальные детали, необходимые для любого исторического повествования как жанровой разновидности эпического. В нашем случае речь может идти о дереве, около которого проходят моляны в повествовании К. Г. Абрамова «Пургаз». Вероятнее всего речь здесь идет о священном дубе, одном из уникальнейших и старейших деревьев на территории Мордовии. До настоящего времени Большеберезниковском районе Мордовии, в Симкинском природном парке растет он, со временем превратившийся в легенду, о живительной магической силе которой говорят и поныне. Благодаря изображению еще молодого дерева можно определить время действия в романе. Таким образом, элемент природы способен стать маркером времени в художественном произведении. Более того, относительно данного примера мы можем говорить о мифологической составляющей изображения природы.
Функциональный аспект изображения природы в рассуждениях автора имеет личностный характер, который проиллюстрирован конкретным восприятием изображаемого и спроецируем на читателя произведения. Частично мы уже говорили об этом [3; 4; 5]. Исторический жанр накладывает дополнительные условия воспроизведения природного начала.
Речь здесь не идет о принципиально другой картине мира. Скорее это некая проекция того, что могло быть, но в настоящем уже изменилось. Такие нюансы в художественном тексте свидетельствуют о мастерстве писателя, но совершенно не обязательны.
Проявление глубинных ассоциаций, сопряженных с философскими размышлениями героев, достаточно часто соседствует с пейзажными зарисовками в произведении. Философичность и неоднозначность трактовки природного начала позволяет выявить суть не только характера изображаемого героя, но и общества в целом. Убедительность же подобных суждений напрямую зависит от мастерства автора-повествователя.
Список литературы Соотношение личностного и природного начала как основа художественного психологизма исторического повествования в мордовской литературе
- Абрамов К. Г. Пургаз. - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1993. - 464 с.
- Брыжинский М. И. Ради братий своих. - Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1986. - 279 с.
- Жиндеева Е. А. История. Литература. Личность: к вопросу о концепции личности в мордовской художественной прозе Мордовии / Мордов. гос. пед. ин-т. - Саранск, 2000. - 242 с.
- Жиндеева Е. А. Парадигматические отношения в современной литературе Мордовии // Вестник Череповецкого государственного университета. - 2012. - № 3. - Т. 1. - С. 62-65. EDN: PCEBFH
- Жиндеева Е. А., Шигуров В. В. Авторский комментарий как «путеводитель» читателя в системе организации художественного текста // Гуманитарные науки и образование. - 2013. - № 3. - С. 127-130. EDN: RVLYAB