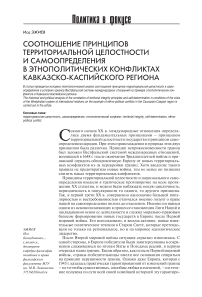Соотношение принципов территориальной целостности и самоопределения в этнополитических конфликтах Кавказско-Каспийского региона
Автор: Эжиев Иса Багаудинович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политика в фокусе
Статья в выпуске: 5, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится историко-политологический анализ соотношения принципов территориальной целостности и самоопределения в условиях кризиса Вестфальской системы международных отношений на примере этнополитических конфликтов в Кавказско-Каспийском регионе.
Территориальная целостность, самоопределение, этнополитический конфликт
Короткий адрес: https://sciup.org/170166378
IDR: 170166378
Текст научной статьи Соотношение принципов территориальной целостности и самоопределения в этнополитических конфликтах Кавказско-Каспийского региона
С самого начала XX в. международные отношения определя-лись двумя фундаментальных принципами — принципом территориальной целостности государств и принципом само -определения народов. При этом происхождение и природа этих двух принципов была различна. Принцип неприкосновенности границ был заложен Вестфальской системой международных отношений, возникшей в 1648 г. после окончания Тридцатилетней войны и при -званной оградить обескровленную Европу от новых территориаль-ных конфликтов из - за перекройки границ. Хотя введение такого правила не предотвратило новые войны, тем не менее он позволял снизить накал территориальных конфликтов.
Принципы территориальной целостности и национального само определения входили в трагическое противоречие на всем протя жении ХХ столетия, и можно было наблюдать некую цикличность, периодичность в популярности то одного, то другого принципа. Так, в первой трети XX в. совершенно однозначно большей попу лярностью и востребованностью отличался именно лозунг о праве наций на самоопределение вплоть до отделения. Именно он явился одним из основополагающих в процессе становления Лиги Наций и закладывания основ ее деятельности и служил морально правовым базисом формирования новых государств в Европе после Первой мировой войны. Его использовали, и весьма активно, новые влия тельные политические течения в Старом Свете, которые претендо -вали не только на региональное, но и на мировое идеологическое лидерство.
После Второй мировой войны ситуация серьезно изменилась. С одной стороны, в Европе победители были заинтересованы в сохра нении сложившихся по итогам Ялты и Потсдама реалий, в первую очередь в плане границ. Таким образом, как и после Первой мировой войны, страны победительницы имели все основания опираться на принцип нерушимости границ. Однако даже Европа, которая с 1945 г. казалась практически гарантированной от изменений границ — не то чтобы существенных, а вообще любых изменений, — и в тече-ние полувека по сути всей своей новейшей историей эту гарантиро ванность подтверждавшая, в конце столетия оказалась ввергнута в новый передел. Спусковым механизмом стала демокра-тизация в СССР и Восточной Европы. Перемены в СССР и странах Центральной и Восточной Европы, долгие десятилетия выставлявшихся в зеркале западной про паганды как нереформируемые и олице -творяющие своеобразный абсолют несво-боды и бескомпромиссности, неожиданно поставили «свободный мир» перед нели-цеприятным видом собственного состоя ния дел с обеспечением прав, в т.ч. и наци -ональных, отразившимся в зеркале совет ской перестройки и спровоцированных ею реформ в странах — сателлитах Советского Союза, как в капле воды.
В этом смысле Кавказско-Каспийский регион стал одним из «передних краев» формирования новой геополитической реальности. Идеи о праве на самоопреде-ление явились одним из спусковых меха низмов межнациональных конфликтов, ставших миной, заложенной под пере строечные процессы в СССР, и в итоге приведших к разрушению самого государ ства.
Первым в череде таких конфликтов, вспыхнувшим раньше других и оказав шим наибольшее влияние на развитие ситуации и в регионе, и в огромной меж национальной стране в целом, явился конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Этот конфликт, который стал первым в ряду межнациональных кризисов на тер ритории бывшего СССР, возник в феврале 1988 г. и продолжался в течение шести лет, под конец приняв в 1992—1994 гг. форму полномасштабной войны, в которую ока зались вовлечены две бывшие советские республики — Армения и Азербайджан. Характерно, что позиция армянской сто -роны, сначала претендовавшей на пере кройку границ в рамках существующего СССР, позднее также изменилась, и в своих притязаниях на Нагорный Карабах она стала делать упор на самоопределе ние, имея в виду право армянской общины Нагорного Карабаха на отделение от Азербайджана.
После распада СССР и начала факти чески открытого военного противостоя ния между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха, по мнению экспертов, именно военная помощь со стороны России (причем как со стороны размещенных в Армении частей 7 - й рос - сийской армии, так и непосредственно с территории РФ переброской вооружения воздушным путем) позволила армянским силам добиться перелома в ходе военных действий в свою пользу и фактически одержать военную победу в карабахском конфликте в 1993—1994 гг.
Достигнутое в мае 1994 г. в Бишкеке соглашение о прекращении огня в зоне армяно азербайджанского конфликта не смогло снять остроту противоречий вокруг конфликтного региона, равно как и последующие годы деятельности (все еще продолжающейся) Минской группы ОБСЕ по урегулированию. Стремление Армении и НКР «оставить все как есть» (фактическая, а в перспективе и юридиче ская независимость НКР и сохраняющаяся оккупация пяти районов Азербайджана), с одной стороны, и жажда реванша со сто роны Азербайджана — с другой, создают исключительно взрывоопасную ситуацию в регионе. Без преувеличения можно ска зать, что по потенциалу рисков межгосу дарственного военного конфликта кара бахская проблема остается наиболее угро жающей во всем Каспийско Кавказском регионе. И в основе ее лежит доведенная до крайности попытка реализации прин ципов права на самоопределение и прин ципа нерушимости границ.
То же самое в несколько меньших раз -мерах можно наблюдать в других кон фликтных точках региона — Абхазии и Южной Осетии. При всей кажущейся стороннему неискушенному наблюдателю схожести данных ситуаций их различают и существенные нюансы. Проблема Южной Осетии, на первый взгляд, в чем то сходна с карабахской. Однако если в случае с карабахскими армянами речь шла изна чально о стремлении воссоединения с Арменией — одной из республик СССР, имеющих согласно Конституции право выхода из СССР и в итоге реализовав шей, как и все остальные 14 республик, это право, то в случае с осетинским насе лением ЮОАО, воссоединение могло произойти только с единоплеменниками в Северной Осетии, которая, в свою оче редь, тоже была автономией другой союз ной республики РСФСР. Таким образом, конфликт вокруг Южной Осетии неиз бежно выходил на уровень взаимоотно шений между двумя союзными респу бликами, а после обретения ими незави симости в 1991 г. — и двумя суверенными государствами. Именно тогда и сложились первичные предпосылки для дальнейшего обострения межгосударственных отно -шений между Грузией и Россией вокруг югоосетинской проблемы, в итоге привед-шего к войне между двумя государствами в августе 2008 г.
Что касается Абхазии, то в этом случае речь с самого начала могла идти, прежде всего, о самоопределении в форме неза-висимости. Хотя в начале движения за самоопределение Абхазии в конце 80-х гг. выдвигались идеи выхода из соста ва Грузии с сохранением в составе СССР (это использовалось и союзным руководством в борьбе с антисоюзным грузинским сепа ратизмом), на момент начала вооружен -ного конфликта в августе 1992 г., когда СССР уже распался, девизом абхазского движения за самоопределение являлось уже однозначно самоопределение без присоединения к какому то иному госу дарству. Эта позиция остается неизмен -ной в политике Абхазии и на современном этапе.
Таким образом, как минимум, в двух из трех этнополитических конфликтов в Каспийско - Кавказском регионе в позд -несоветский и постсоветский период (Нагорный Карабах и Южная Осетия), а с некоторыми оговорками в случае с Абхазией — и во всех трех данных ситуа-циях принцип полного самоопределения в форме независимого существования брался на вооружение лишь на относи тельно поздних стадиях политической борьбы за самоопределение как тако вое. Вначале же борьба велась за пере -ход от одного субъекта единого много -национального государства к другому. Иными словами, речь идет скорее не о национальном самоопределении, а о вос соединении народов. К тому же такая терминология больше отвечала тради ционным советским установкам во вну тренней и национальной политике, в которой решение о слиянии и разделении (а то и ликвидации) целых национально государственных образований и судьбе населявших их народов принималось, как правило, в волевом стиле и директив -ными методами. Более того, увлечение международно признанной терминоло гией также могло вызвать раздражение советских верхов, к которым апеллиро вали стороны в раннюю стадию межна циональных конфликтов на территории СССР (1987—1989 гг.), а скорее всего и для самих лидеров национальных дви жений более привычной была советско партийная риторика, чем правозащит ная гуманитарная лексика. Однако пре жде всего причина коренилась именно в многолетнем существовании в условиях тоталитарного государства, где все реше ния спускались сверху и даже попытка убедить в чем то эти верхи (например, в ошибочности существующего положения в национально территориальном устрой стве) воспринимались сами по себе как ересь и диссидентство, в сколь бы мягких формах они ни выражались.
Однако с течением времени надобность в таком «осторожничании» пропала. Уже к 1990 г. сама центральная власть настолько далеко зашла в процессе демократизации и снятии всяческих прежде представляв -шихся незыблемыми табу, что широкое применение демократического новояза, в т.ч. заимствованного из области междуна родного права, стало обычным явлением на просторах СССР вообще и в зонах меж национальных конфликтов, возникнове нием которых почти повсюду сопрово ждались требования о самоопределении, в частности. Поэтому тезис о самоопреде-лении как фундаментальном праве наций был уверенно «взят на вооружение» и стал чрезвычайно распространенным. Под этим «соусом» подавались практически все этнотерриториальные конфликты на пространстве позднего СССР и насле довавших ему независимых государств — бывших советских республик.
Таким образом, в условиях Каспийско Кавказского региона ликвидация Вестфальской системы и торжество прин ципа самоопределения над принципом нерушимости границ привело к возникно-вению целого ряда этнотерриториальных конфликтов, ни один из которых не урегу лирован и по сей день. Излишне говорить о том, что наличие такого числа «горячих точек» (пусть и временно «дезактивиро -ванных», т.е. не находящихся в острой фазе) превращает регион в один из самых рискогенных в геополитическом отноше нии регионов мира.