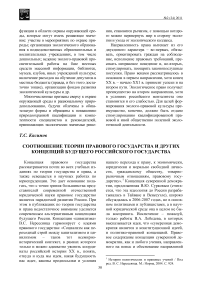Соотношение теории правового государства и других концепций будущего российского государства
Автор: Касимов Тимур Салаватович
Журнал: Правовое государство: теория и практика @pravgos
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 2 (24), 2011 года.
Бесплатный доступ
Правовое государство можно считать парадигмой развития России. Однако в настоящее время публикуются разнообразные концепции будущего российского государства. Среди них есть достаточно известные концепции русского национализма, исламизма, энергетической сверхдержавы, либеральной империи. Рассмотрены также менее известные концепции «экономической демократии», «традиционализма», «державности (империя русского типа)», «Ладземли», «Державного Союза России», «нации-корпорации», «ресурсного государства», «этического государства», «гарантийного государства». Показано соотношение данных концепций с теорией правового государства.
Правовое государство, концепции будущего, национализм, исламизм, либерализм, социализм, демократия, традиции, нравственность, верховенство права
Короткий адрес: https://sciup.org/142233571
IDR: 142233571
Текст научной статьи Соотношение теории правового государства и других концепций будущего российского государства
функции в области охраны окружающей среды, которые могут иметь решающее значение: участие в мероприятиях по охране природы; организация экологического образования в подведомственных образовательных и воспитательных учреждениях, в том числе дошкольных; ведение эколого-правовой просветительской работы на базе местных средств массовой информации, библиотек, музеев, клубов, иных учреждений культуры; включение расходов на обучение депутатов в местные бюджеты (правда, и без этого достаточно тощие), организация фондов развития экологической культуры и др.
Многочисленные призывы сверху к охране окружающей среды и рациональному природопользованию, будучи облечены в обязательную формы и обращены к повышению природоохранной квалификации и компетентности специалистов и руководителей, принимающих экологически значимые реше-
Т.С. Касимов ния, становятся рычагом, с помощью которого можно перевернуть мир в сторону экологии и ухода от экологического коллапса.
Направленность права вытекает из его двуединого характера – во-первых, обязывать, ориентировать граждан на соблюдение, исполнение правовых требований, пресекать неправовое поведение и, во-вторых, стимулировать, поощрять законопослушные поступки. Право веками рассматривалось в основном в первом направлении, хотя конец ХХ в. – начало ХХ1 в. приносит успехи и на втором пути. Экологическое право получает преимущество на втором направлении, хотя в условиях российского менталитета оно становится и его слабостью. Для целей формирования эколого-правовой культуры преимущество, конечно, должно быть отдано стимулированию квалифицированной правовой и иной общественно полезной экологической деятельности.
СООТНОШЕНИЕ ТЕОРИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И ДРУГИХ КОНЦЕПЦИЙ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
Концепция правового государства раcсматривается почти во всех учебных изданиях по теории государства и права, а также освещается в научных работах по юриспруденции. Это дает основание полагать, что с точки зрения большинства представителей современной отечественной юридической науки правовое государство является парадигмой развития России. При этом в публикациях по теории государства и права недостаточное внимание уделяется современным альтернативным концепциям будущего России. Концепция «цивилизма» В.С. Нерсесянца гармонирует с идеями правового государства: «Социализм как переходный строй между капитализмом и ци-вилизмом – таков тот всемирноисторический контекст, в рамках которого только и можно адекватно уяснить координаты российской истории XX в., понять, откуда и куда мы идем, какая будущность нас ждет, каковы предпосылки и условия нашего перехода к праву, к экономически, юридически и морально свободной личности, гражданскому обществу, товарнорыночным отношениям, правовому госу-дарству».1 Концепция суверенной демократии, предложенная В.Ю. Сурковым (считается, что эта идеология до России разрабатывалась в Тайване и Венесуэле), широко обсуждалась в 2006-2007 годах, но в основном политиками и публицистами, а в научной юридической среде она в целом не была воспринята. Исключение – пожалуй, только работы В.А. Лебедева, в которых высказывается идея, что «суверенная демократия является и конституционной идеей, и политико-правовой концепцией. Правовое содержание концепции суверенной демократии, как и любого учения, направленного на поиск и обоснование направлений
дальнейшего развития России, является весьма обширным»1.
О стремлении к построению правового государства в России говорится в программах четырех из семи зарегистрированных политических партий: «Единой России», ЛДПР, «Справедливой России» и «Яблока», но только в последней эта цель заявлена как один из приоритетов, в самом начале текста.
Если не придерживаться точки зрения, что концепции будущего государства должны создаваться и развиваться только учеными-юристами и политиками, то следует обратить внимание на немалое число разнообразных концепций. Среди них есть те, которые отрицают принципы правового государства. В современной России из них наиболее популярны концепции русских националистов и исламистов.
Отметим взгляды таких приверженцев русских националистических концепций, как М. Беляев, А.Н Кольев, Е. Косов, В. Ларионов, Б. Миронов, А. Савельев, А.В. Севастьянов, Е.С. Холмогоров. Их теории содержат много общих или схожих положений о будущем России: монархическая форма правления, отмена национальнотерриториальной федерации и переход к территориальной федерации или унитарному государству, отказ от разделения властей, огосударствление или привилегии одной религии (русского православия), привилегии по национальному признаку, нетерпимость или даже дискриминации по национальным и религиозным признакам.2
Такие идеи противоречат принципам правового государства: народному суверенитету, федерализму в многонациональном государстве, отделению религии от государства, равноправию независимо от национальной и религиозной принадлежности.
Сложной проблемой для России является исламизм, реже именуемый политическим исламом. Пожалуй, наиболее известный российский приверженец исламизма, Гейдар Джемаль, призывает к неповиновению мусульман неисламской власти. Более того, в работах Г. Джемаля содержится тезис о грядущей исламской революции.3 Джемаль считает, что исламская революция должна не ограничиваться границами одного государства, а приобрести всемирный характер, стать «мировой революцией», в результате которой к власти придет исламское «мировое правительство», которое он называет Интернационал.4 Исламское государство по своей сущности есть отрицание правового государства.
Исходя из того, понятие «концепция» происходит от латинского слова conceptio – понимание, концепциями следует считать и общие идеи о каком-либо явлении, можно назвать множество концептуальных, но не проработанных глубоко воззрений на будущее государства в России.
В числе подходов, которые ограничиваются описанием лишь общих или отдельных характеристик модели будущего государства концепции «энергетической сверхдержавы» Н. Гриб, А. Рара, К.В. Симонова, «либеральной империи» А.Б. Чубайса, «экономической демократии» В.Ю. Мили-тарева, «традиционализма» С.Н. Бабурина, C.М. Небренчина, «державности (империя русского типа)» В.В. Аверьянова, «Ладзем-ли» (В.Г. Колосова и В.Е. Чабанова), «Державного Союза России» Л.Г. Ивашова.
Более развернуты «нации-корпорации» М. Калашникова, «ресурсного государства» С. Кордонского, «этического государства»

В.А. Шемшука, «гарантийного государства» Н.С. Михалкова.
При оригинальности своих названий, данные концепции, как правило, также относятся к той или иной классической идеологии.
Идеи об «энергетической сверхдержаве» и «либеральной империи», при всей претензии на «имперскость», все-таки находятся в рамках либеральной концепции (не зря США также названы либеральной империей). Они сфокусированы больше на экономических аспектах государства.
«Экономическая демократия» и «нация-корпорация» – разновидности социалистического проекта. Автор первой считает идеалом исключительную собственность государства на недра и добываемое сырье, а также государственную монополию на проведение международной энергополитики (в отношении частных компаний должен действовать механизм согласования с государством партнеров по продажам и цен, а также всех инвестиционных проектов с иностранными партнерами)1. Такой подход не согласуется с плюрализмом форм собственности и свободой предпринимательства, то есть той экономической базой, на которой построены правовые государства.
Идеи Калашникова о будущем государства в России таковы. Это «национальнокорпорационное устройство на социалистический лад».2 Государство типа «нация-корпорация» будет построено на сочетании сетевых и централизованных способов управления. Оно также сможет совмещать несовместимое. Например, монархическую, исконно присущую русским верховную власть – и самую развитую демократию в местных Советах… В подобном государстве элита составит некий клуб, куда будут приниматься лишь пропитанные патриотизмом, лишенные коррупционных качеств люди... Здесь заработает система отбора и воспитания таких личностей из всех слоев общества, мощная «индустрия» кадетских корпусов и суворовских училищ. Подобное государство сможет бороться с се тевыми врагами, ибо совместит в себе ту же сетевую быстроту и неуязвимость со способностью мобилизовать силы и средства в нужных направлениях. Интересно, что приводится несколько названий, отражающих концепции сходные с рассматриваемой. «Что это за «нация-корпорация»? Демократический тоталитаризм? Социалистическая монархия? Национал-социализм? Фашизм? Все не то!»…«Нация-корпорация – порождение мира Будущего».3 Даже из приведенного краткого описания видно стремление к оригинальности автора, Владимира Кучеренко, который издал под псевдонимом «Максим Калашников» множество футурологических книг. Однако его изыскания приводят не только к пугающему сравнению его концепции с идеями национал-социализма и фашизма, но и к действительному превознесению принципов, присущих больше авторитарным и даже тоталитарным государствам: монархии, рекрутирования в элиту из военных училищ, борьбы с «сетевыми врагами». Все это далеко от принципов правового государства.
С. Кордонский выдвигает концепцию «ресурсного государства» (поместной федерации). В нем население обязано обеспечить поступление ресурсов в центральный (в наше время федеральный) бюджет, а государство обязано так распределять ресурсы, чтобы удовлетворить доминирующие в настоящее время принципы социальной справедливости. Социальные группы – сословия, к которым причислены все граждане страны, специализированы либо на сдаче ресурсов (на производстве), либо на их раздаче (на управлении), либо на контроле за социальной справедливостью при сдаче и раздаче (силовые структуры). Контроль за сдачей и раздачей ресурсов осуществляется институтов жалоб (доносов) граждан на нарушение социальной справедливости4. Совокупность всех должностных лиц одного уровня может претендовать на статус «собора» соответствующего уровня. Соборы (сословные собрания) возможны на всех уровнях гипо

тетической государственной административно-территориальной организации1.
Большую группу составляют патриотические и иные концепции, призывающие к следованию российским традициям и обращающим внимание на нравственные аспекты. К ним следует отнести концепцию С.Н. Бабурина и C.М. Небренчина. Они считают, что в настоящее время затягивается процесс выработки целостной концепции и формирования основ новой государственности. Слабость нынешней государственности кроется в самой природе власти, не имеющей глубоких российских корней. Происходит слепое заимствование и копирование зарубежных форм управления государством и обществом. Практически не учитывается отечественный опыт государственного строительства в кризисные периоды, когда во многом благодаря использованию традиционных форм правления удавалось обеспечивать выживание и самосохранение российских народов. Продолжают осуществляться на практике концепции (модели, программы, проекты) государственного развития, которые, по сути, являются органической частью англо-американской геостратегии антироссийской направленности.2 Таким образом, можно считать, что авторы подразумевают неправильным курс на строительство правового государства, поскольку он признает идеалом не традиционно российские учения, а модель, пришедшую к нам с Запада. Кстати, среди традиционалистов из стран Азии и Латинской Америки немало тех, кто аналогичным образом выступает против американских программ формирования в этих странах верховенства права (the rule of law).
Концепция «Ладземли», придуманная В.Г. Колосовым и доработанная В.Е. Чаба-новым, также содержит идею возвращения к традициям, правда эти традиции больше напоминают избирательную систему Российской империи начала ХХ века (и европейских демократий XIX века) и противо- речат принципу всеобщих прямых равных выборов. Он считает правильным не прямые выборы, а многоступенчатые, при которых голосуют за выборщиков низового уровня, выбирающих из своей среды управленцев более высокого уровня.3
Концепции В.В. Аверьянов и Л.Г. Ивашова отличаются меньшей оригинальностью, чем идеи вышеназванных авторов, но они также указывают на необходимость государства с опорой на традиции и нравственность. В.В. Аверьянов и другие авторы книги под названием «Новая русская доктрина: Пора расправить крылья» пишут о необходимости иметь как часть концепции государства помимо нации (демократия) и власти (суверенность) значимое третье начало, третье звено. Этим третьим звеном должна стать пока еще не проясненная до конца формулировка содержательного наполнения элиты России, концептуального разрешения ее жизненных задач. Это могла бы быть демократия, вооруженная идеалами духовной суверенности и справедливости. Элита должна дать возможность расцветать традиционным ценностям морали, культуры, этнических и местных укладов, реализовать многие из этих возможностей, возглавить процесс воссоздания нашей идентичности, сочетая ее с ценностями динамичного развития, прорыва в будущее4. Л.Г. Ивашов полагает, что объединение в «Державный Союз России» – это объективная необходимость, это движение снизу, из гущи народных масс. Речь идет о консолидации национальнопатриотических, державных сил с целью придания им организованности и динамизма, сосредоточения потенциала людей, способных предложить новый путь развития России, основанный на реальных и потенциальных возможностях страны, на лучших традициях нашего народа, на принципах высокой духовности и веры.5
«Сегодня превозносится так называемое правовое государство, построенное на римском праве. Но его отличие от этического государства заключается в том, что законы устанавливаемые государством, поддерживаются полицией, в то время как в этическом государстве действуют не законы, а принципы морали, которые совпадают с общественной моралью и поддерживаются общественным мнением»1. Идея Шемшука о морали как альтернативе права напоминает марксистско-ленинское учение о коммунистическом обществе. В нем декларировались отмирание права и приход ему на смену в качестве регулятора общественных отношений коммунистической морали.
Наконец, концепция Н.С. Михалкова, воспроизводящая идею «гарантийного государства», которое «базируется не только на материальных (политических и экономических) измерениях, но и несет в себе духовный, нравственный смысл»2. Примечательно, что «Манифест Просвещенного Консерватизма» озаглавлен «Право и правда», и право поставлено на первое место и в названии и в содержании концепции.
Воззрения традиционалистов, патриотов, сторонников приоритета морали и совести перед правом весьма типичны для России, в которой было и остается немало мыслителей, считающих, что мораль или совесть отдельного человека являются более важными регуляторами поведения. Наиболее яркие примеры данной разновидности правового нигилизма – многие русские философы, например, авторы сборника «Вехи» и писатели, от Л.Н. Толстого до В.Г Распутина и других наших современников.
Мысль о нравственном государстве на самом деле не противоречит концепции правового государство, но с поправкой на то, что законы приучают людей, включая тех, которые представляют государство, быть нравственными. Называть государство нравственным довольно нелепо так же, как, например, умным, трудолюбивым, че- стным или отзывчивым, ибо данные прилагательные описывают свойства человека, а само государство все-таки неодушевленное сложное социальное явление. Русский философ В. Соловьев писал, что право – это лишь минимум нравственности. На самом деле законы способны привить нравственность людям. Например, недавно установленный в России запрет пить пиво в общественных местах под страхом административного наказание или ужесточение санкций за вождение в состоянии опьянения призваны не только привить людям высокую культуру поведения, они способны через юридические инструменты сделать людей нравственней, избавить их от худших проявлений пьянства.
В правовом государстве законы призваны, как правило, соответствовать нормам нравственности. Верховенства права как принцип правового государства означает, что законы должны быть хорошими, то есть соответствовать нравственным принципам справедливости, гуманизма, равноправия. Даже в современной России нормы права в основном этим принципам соответствуют. Такой вывод мы сделали в результате многочисленных опросов как студентов, так и уже работающих граждан, в том числе юристов. Россияне с большим трудом могут найти в действующем законодательстве нормы, противоречащие морали, нравственности. Называемые ими немногочисленные негативные примеры обычно представляют собой нормы, имеющие скорее спорные недостатки. Таким образом, у нас есть основания считать, что в современной России не реализуются скорее второй аспект верховенства права – исполнение законов. Не в должной степени осуществляется именно реализация многих норм права.
В итоге исследования современных отечественных концепций, посвященных будущему государства в России, можно сделать вывод, что концепция правового государства отличается от них не только гуманизмом, провозглашая высшей ценностью человека (а не государство, нацию, религию или традиции), но и максимально глубокой проработкой признаков (принципов) желаемого образа государства.
Список литературы Соотношение теории правового государства и других концепций будущего российского государства
- 1.История политических и правовых учений / Под ред. В. С. Нерсесянца. М.: Норма, 2004. С. 924.
- 2.Суверенная демократия или суверенитет демократии? // Конституционное и муниципальное право. 2007. № 5. С.12.
- 3.Интернет ресурс М. Беляева "Концепция Национального Государства" (сайт www.milogiya2007.ru/rusnaz1.htm); Кольев А.Н. Нация и государство. Теория консервативной реконструкции. М.: Логос, 2005; Косов Е. Быть русским. Русский национализм - разговор о главном. М.: 4.Зебра Е, 2005; Ларионов В. Православная Монархия. Национальная Монархия в России. Утопия или политическая реальность. М.: Издатель 5.Быстров, 2007;. Миронов Б. Русские. Последний рубеж М.: Алгоритм, 2009; Севастьянов А.В. Россия для русских. Третья сила: русский национализм на авансцене истории. М.: Книжный мир, 2006; Холмогоров Е.С. Русский проект: Реставрация будущего. М., 2005.
- 4.Джемаль Г. Освобождение ислама. М.: Умма, 2004. С. 43.
- 5.Джемаль Г. Освобождение ислама. М.: Умма, 2004. С. 410-411.