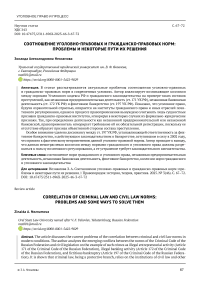Соотношение уголовно-правовых и гражданско-правовых норм: проблемы и некоторые пути их решения
Автор: Незнамова З.А.
Журнал: Правопорядок: история, теория, практика @legal-order
Рубрика: Уголовное право и процесс
Статья в выпуске: 3 (46), 2025 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются актуальные проблемы соотношения уголовно-правовых и гражданско-правовых норм в современных условиях. Автор анализирует возникающие коллизии между нормами Уголовного кодекса РФ и гражданского законодательства на примере таких составов преступлений, как незаконная предпринимательская деятельность (ст. 171 УК РФ), незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК РФ) и фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Показано, что уголовное право, будучи охранительной отраслью, опирается на институты гражданского права и иных отраслей позитивного регулирования, однако в процессе правоприменения вынуждено учитывать лишь сущностные признаки гражданско-правовых институтов, игнорируя в некоторых случаях их формально-юридические признаки. Так, при определении деятельности как незаконной предпринимательской или незаконной банковской, правоприменитель игнорирует требование об их обязательной регистрации, поскольку ее отсутствие образует признак объективной стороны состава преступления. Особое внимание уделено диссонансу между ст. 197 УК РФ, устанавливающей ответственность за фиктивное банкротство, и действующим законодательством о банкротстве, вступившим в силу в 2002 году, что привело к фактическому неприменению данной уголовно-правовой нормы. Автор приходит к выводу, что данная межотраслевая коллизии между нормами гражданского и уголовного права должны разрешаться в пользу позитивного регулирования, а ее устранение требует законодательного вмешательства.
Соотношение норм гражданского и уголовного права, незаконная предпринимательская деятельность, незаконная банковская деятельность, фиктивное банкротство, коллизии норм гражданского и уголовного законодательства
Короткий адрес: https://sciup.org/14134016
IDR: 14134016 | УДК: 343 | DOI: 10.47475/2311-696X-2025-46-3-67-72
Текст научной статьи Соотношение уголовно-правовых и гражданско-правовых норм: проблемы и некоторые пути их решения
Для общей теории государства и права, равно как и для всех отраслевых юридических наук, тезис о том, что российское право и законодательство являются системными образованиями, является аксиоматичным.
Так, в учебнике кафедры теории государства и права им. С. С. Алексеева Уральского государственного юридического университета им. В. Я. Яковлева указывается, что «Система права — внутреннее строение (структура) права, отражающее объединение и дифференциацию юридических норм». «Структура права (его система) обуславливает ее форму (систему законодательства) и неразрывна с ней» [9, с. 218]. По мнению авторов данного учебника, основная цель этого понятия — объяснить одновременно интегрирование и деление нормативного массива на отрасли и институты, дать системную характеристику позитивного права в целом. Последнее, будучи нормативным ядром правовой системы конкретного общества, обладает такими качествами, как целостность и автономность, стабильность и динамизм, взаимосвязь и структурированность содержания и формы, имеет источники развития» (выделено мной, З.Н.) [9, с. 218–219].
Как видно из приведённых цитат, одним из важных свойств системы права и законодательства является взаимосвязь структурных элементов этого системного образования между собой. Взаимосвязи проявляется в различных аспектах, но для целей настоящей работы важнейшим является непротиворечивость элементов между собой.
Вопрос о соотношении норм гражданского и уголовного права является проблемой, которая давно привлекает внимание исследователей уральской школы уголовного права. Так, влияние гражданско-правового регулирования на уголовно-правовую оценку преступлений против собственности рассматривал в своих работах А. В. Хабаров [11]. Проблемы взаимодействия норм гражданского законодательства и преступлений в сфере экономической деятельности изучал Д. М. Пай-вин [7]. Данной проблеме посвящена докторская диссертация И. В. Шишко [12]. Прошло более 20 лет с момента написания данных работ, но вопрос о соотношении норм гражданского и уголовного законодательства так и остался актуальным и проблемным. Более того, актуальность его возрастает многократно в современный период в связи с появлением новых объектов гражданского права и предметов преступлений против собственности, а также преступлений в сфере экономической деятельности, таких как криптовалюты, токены, электронные денежные средства и другие. В данной статье автор предпринимает попытку посмотреть на вопросы межотраслевого взаимодействия ГК РФ и УК РФ в новых условиях.
Материал и методы
При написании статьи использовались нормы уголовного и гражданского законодательства, постановления Пленума Верховного суда РФ, доктринальные источники. При проведении исследования применялись общенаучные и частно-научные методы научного познания, такие как формально-юридический, сравнительноправовой, а также диалектический метод.
Описание исследования
Основной тезис, который звучит, в частности, в работах указанных выше исследователей, заключается в том, что уголовное право, будучи отраслью охранительной, должно пользоваться инструментарием гражданского права, ибо именно те общественные отношения, которые урегулированы гражданским правом, охраняются правом уголовным. В этой связи при конструировании уголовно-правовых норм, а также при их применении следует пользоваться категориями и понятиями, которые предусмотрены гражданским правом.
По утверждению И. В. Шишко «Законодательно закрепленная специализация уголовно-правовых и регулятивных норм обусловливает абсолютную монополию последних в регулировании позитивных отношений (в том числе в сфере экономической деятельности).
Описание в нормах гл. 22 УК РФ нарушений запретов либо неисполнения обязанностей, установленных исключительно регулятивными нормами (экономи- ческим законодательством), означает, что диспозиции «экономических» норм УК РФ детерминированы регулятивными нормами» [12, c. 8].
По результатам своего исследования И. В. Шишко приходит к выводу о желательности дополнить УК РФ определенной нормой, которая бы решала вопрос о соотношении норм гражданского и уголовного законов. «С учетом этого норму об идентичности понятий (ее содержат п. 1 ст. 11 ПК РФ, п. 2 ст. 11 ТК РФ и другие законы) в Уголовном кодексе следует изложить в такой редакции: «Понятия и термины уголовного законодательства Российской Федерации, используемые в нормах настоящего Кодекса, применяются в том значении, в каком они используются в нормативных правовых актах, обусловливающих соответствующие уголовно-правовые нормы (вариант: охраняемых соответствующими уголовно-правовыми нормами), если иное не предусмотрено настоящим Кодексом» [12, c. 9].
Подобной позиции в принципе придерживается и правоприменитель. Так, в п. 1 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 «О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве» Верховный суд РФ специально подчеркнул, что, «при решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, судам следует выяснять, соответствуют ли эти действия указанным в пункте 1 статьи 2 ГК РФ признакам предпринимательской деятельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, которая осуществляется самостоятельно на свой риск лицом, зарегистрированным в установленном законом порядке в качестве индивидуального предпринимателя» 1.
Если следовать буквальному толкованию понятия предпринимательской деятельности, данному в гражданском законодательстве, ответственность по ст. 171 УК РФ может нести только лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя или зарегистрировавшее юридическое лицо. Между тем, одним из конструктивных признаков объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, является осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Деятельность признается незаконной предпринимательской, а при наличии криминализирующих признаков в части причиненного ущерба — уголовно-наказуемой, если субъект занимается деятельностью, которая де-факто является предпринимательской, но де-юре таковой не является. Это означает, что одинаковую по своим фактическим признакам деятельность определенных субъектов специалисты в области гражданского права не признают предпринимательской, поскольку она не зарегистрирована в установленном законом порядке, а специалисты в области уголовного права таковой признают и будут говорить о незаконной предпринимательской деятельности в плане ст. 171 УК РФ.
Стало быть, уголовное право должно руководствоваться лишь сущностными признаками предпринимательской деятельности, но не может полностью использовать соответствующее понятие, данное в гражданском законодательстве.
Аналогичная, но еще более сложная ситуация возникает при определении понятия «банковская деятельность» по УК РФ и по Федеральному закону «О банках и банковской деятельности» 2.
В ст. 172 УК РФ установлена уголовная ответственность за незаконную банковскую деятельность. При этом диспозиция ч. 1 данной статьи описывает объективную сторону данного преступления как осуществление банковской деятельность (банковских операций) без регистрации или без лицензии. Из буквального толкования данной нормы можно сделать вывод, что банковская деятельность сводится к банковским операциям. В ФЗ «О банках и банковской деятельности» понятие банковской деятельности не дается, но из содержания ст. 5 можно сделать вывод, что банковские и небанковские кредитные организации могут совершать не только банковские операции, но и иные банковские сделки. Вопрос о том, входит ли в объективную сторону состава ст. 172 УК РФ совершение иных сделок, предусмотренных ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», является спорным в теории как банковского, так и уголовного права [1; 2; 4; 6; 8]. Однако судебная практика однозначно толкует диспозицию ч. 1 ст. 172 УК РФ буквально, признавая в качестве преступного деяния только совершение банковских сделок без регистрации или без лицензии. Таким образом, уголовное право не в полной мере использует понятие банковской деятельности, которая дается нормами позитивного гражданского законодательства.
Спорным является также вопрос о субъекте преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ. Исходя из содержания ст. 172 УК РФ субъект по данной статьей общий, то есть физическое вменяемое лицо, достигшее 16 летнего возраста. Однако некоторые исследователи полагают, что субъект в данной статье специальный. При этот они при аргументации своей позиции ссылаются на ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности», согласно которой как банковские операции, так и иные сделки могут осуществлять только юридические лица, причем не любые, а имеющие статус кредитных организаций [3, с. 644; 10, с. 170; 1, с. 968].
Допускают ошибки в определении субъекта преступления по данной статье и суды. Так, в Кассационном определении Верховного Суда РФ от 23.09.2010 № 5-О10-235 указано следующее «Судебная коллегия не может согласиться и с доводами кассационного представления о том, что осужденные незаконно осуществляли банковские операции. По смыслу ст. 172 УК РФ и п. 9 ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» субъектами таких правонарушений и преступлений являются учредители кредитных организаций и руководители ее исполнительных органов, в том числе и главный бухгалтер, к которым, как это следует из обстоятельств, установленных приговором, осужденные не относились и не относятся» 1.
Точку в этом споре не поставил даже Конституционный суд РФ, который в своем определении не нашел правовой неопределенности в ст. 172 УК РФ в части возможности привлечения к уголовной ответственности общего субъекта — физического лица, не являющегося руководителем и даже работником кредитной организации 2.
Сказанное позволяет сделать вывод, что и при применении ст. 172 УК РФ уголовный закон и практика его применения не в полной мере применяют положения норм гражданского законодательства, создавая собственные правовые конструкции норм, которые, казалось бы, являются исключительно гражданско-правовыми 3.
Как отмечал в свое время Ф. Энгельс, право «должно не только соответствовать общему экономическому положению, не только быть его выражением, но также внутренне согласованным выражением, которое не опровергало бы само себя в силу внутренних противоречий» [5, c. 418]. Между тем современная тенденция развития уголовного законодательства выражается в нарастающей коллизионности норм гражданского права и норм уголовного права, нередко парализующей нормальное функционирование правового регулирования. Рамки данной работы позволяют остановиться лишь на одном примере такой коллизионности.
Ст. 197 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за фиктивное банкротство. Согласно диспозиции данной статьи, фиктивное банкротство, представляет собой заведомо ложное публичное объявление руководителем или учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного юридического лица, а равно гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, о своей несостоятельности , если это деяние причинило крупный ущерб (выделено мной — З. Н.). Данная норма была принята в 1996 году и входила в первоначальную редакцию УК РФ. На момент принятия кодекса и вступления его в юридическую силу с 1 января 1997 г. действовал Закон РФ от 19.11.1992 г. № 3929-1
«О несостоятельности (банкротстве) предприятий» 4, который нередко именуется первым банкротным законом. В нем фиктивное банкротство понималось как заведомо ложное объявление предприятием о своей несостоятельности с целью введения в заблуждение кредиторов для получения от них отсрочки и (или) рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов.
Закон предусматривал добровольную ликвидацию предприятия-должника как внесудебную процедуру ликвидации несостоятельного предприятия, осуществляемую по соглашению между его собственником и кредиторами под контролем кредиторов.
Согласно ст. 51 данного закона решение о добровольной ликвидации предприятия-должника и об официальном объявлении им о своей несостоятельности (банкротстве) принималось руководителем предприятия- должника совместно с кредиторами на основе анализа экономического состояния предприятия, в результате которого установлено, что предприятие не может платить по своим обязательствам и нет возможности восстановить его платежеспособность.
Предприятие-должник считалось находящимся в процессе ликвидации с момента утверждения собственником (собственниками) данного предприятия решения о его добровольной ликвидации. Официальное объявление о добровольной ликвидации предприятия-должника публикуется в «Вестнике Высшего арбитражного суда Российской Федерации».
При таких обстоятельствах объективная сторона состава фиктивного банкротства, предусмотренная ст. 198 УК РФ, полностью соответствовала Закону 1992 г. Данный Закон утратил юридическую силу с 1 марта 1998 г. С этой же даты вступил в силу Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 5, так называемый второй банкротный закон. Он также содержал статьи о добровольной ликвидации предприятия-должника. И здесь также не было коллизии между нормами банкротного законодательства и уголовным законодательства в части установления уголовной ответственности за фиктивное банкротство.
В 2002 г. был принят так называемый третий банкротный закон 6. И этот ныне действующий закон уже не предусматривает процедуры добровольной ликвидации предприятия. Согласно ст. 2 указанного ФЗ «несостоятельность (банкротство) — признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей».
Таким образом по действующего банкротному закону признать предприятие банкротом может только арбитражный суд. Ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» наделяет правом обращения в арбитражный суд кредиторов и некоторых других субъектов. Правда, ст. 8 ФЗ указывает, что должник вправе подать в арбитражный суд заявление должника в случае предвидения банкротства при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии будет исполнить денежные обязательства, требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) обязанность по уплате обязательных платежей в установленный срок.
С момента вступления в силу закона о банкротстве 2002 г. перед правоприменителем возникла дилемма. Первый вариант — поскольку закон не предусматривает процедур добровольного признания предприятия банкротом и в этой связи у руководителей предприятия-должника нет возможности публичного объявления о банкротстве, следует признать, что выполнение объективной стороны состава преступления, предусмотренного в ст. 172 УК РФ, стало невозможным. Поэтому ст. 172 УК РФ не может применяться в связи с тем, что норма уголовного кодекса вступила в противоречие с нормой гражданского законодательства. Второй вариант — считать обращение должника с заявлением в арбитражный суд публичным заявлением о банкротстве.
Второй вариант представляется нам не совсем правильным. Согласно ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется право на судебную защиту его прав и свобод. Вряд ли реализацию своего конституционного права на обращение в суд можно расценивать как способ совершения преступления.
По всей очевидности, так же думают правоприменители. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ в 2022 и 2023 годах по ст. 197 УК не было осуждено ни одного человека, а 2024 году был осужден 1 человек. Представляется, что данная статистика свидетельствует о полном бездействии данной статьи УК РФ. Смеем высказать суждение, что это связано с коллизионностью данной нормы с нормами законодательства о банкротстве. Кроме того, угрозу ответственности за фиктивное банкротство даже при наличии всех его фактических признаков очень легко устранить путем обращения в арбитражный суд не представителей должника, а какого-нибудь дружественного должнику кредитора.
Заключение и вывод
Вопрос о соотношении норм гражданского и уголовного законодательства остается не решенным, несмотря на значительное количество исследований в данной области и попытки судебных органов, включая Конституционный и Верховный суды РФ, решить данную проблему. С одной стороны, нельзя не отметить, что истоки уголовной ответственности в целом всегда находятся в области позитивного, в том числе гражданского, регулирования. И в этом плане коллизии норм гражданского и уголовного законодательства должны разрешаться в пользу норм позитивного регулирования. В частности, коллизия между нормой о фиктивном банкротстве в ее актуальной редакции, предусмотренной ст. 197 УК РФ, и нормами ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» должна быть исключена на законодательном уровне либо путем исключения данной нормы из УК РФ, либо путем внесения изменений в данную норму путем приведения признаков объективной стороны фиктивного банкротства содержанию действующего банкротного закона.
Поскольку законодатель, как уголовный, так и гражданский, не реагируют на возникшую коллизию более 20 лет (напомним, третий банкротный закон был принят в 2002 г.), то правоприменитель вынужден преодолевать данную коллизию в процессе правоприменительной деятельности. И преодоление происходит в пользу норм гражданского права, о чем свидетельствует судебная статистика по ст. 197 УК РФ.
Автор также приходит к выводу, что уголовное право при уголовно-правовой оценке преступлений против собственности и преступлений в сфере экономической деятельности может и должно опираться на нормы гражданского права, ибо диспозиции практически всех статей в этих двух главах УК имеют бланкетный характер. Однако при этом должны учитываться только сущностные понятия и признаки того или иного гражданско-правового института. Уголовное право, будучи отчасти «антиправом», вынуждено для защиты экономических интересов граждан, организаций, общества и государства игнорировать некоторые формальные признаки гражданско-правовых понятий.
Современный период развития экономики порождает еще более сложную проблему соотношения норм гражданского и уголовного законов, когда уголовное право вынуждено решать вопрос о защите объектов и предметов, которые вообще не имеют гражданско-правовой природы и не урегулированы нормами позитивного законодательства. Но это уже предмет отдельного исследования.