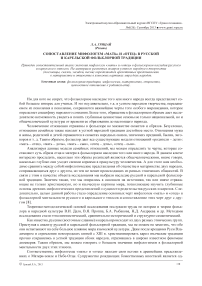Сопоставление мифологем «мать – отец» в русской и карельской фольклорной традиции
Автор: Грицай Людмила Александровна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Филология
Статья в выпуске: 6 (26), 2013 года.
Бесплатный доступ
Приведен сопоставительный анализ значения мифологем «мать» и «отец» в фольклорном наследии русского и карельского этносов. На материале различных жанров устного народного творчества (пословицы, сказки, загадки, песни) определяются арехетипные представления о материнстве и отцовстве в языковых картинах мира двух народов.
Фольклорная традиция, мифологема, материнство, отцовство, ценностное отношение к родительству
Короткий адрес: https://sciup.org/14821975
IDR: 14821975
Текст научной статьи Сопоставление мифологем «мать – отец» в русской и карельской фольклорной традиции
Ни для кого не секрет, что фольклорное наследие того или иного народа всегда представляет собой большое интерес для ученых. И это неудивительно, т.к. в устном народном творчестве, передаваемом из поколения в поколение, сохраняются важнейшие черты того особого мировидения, которое определяет специфику народного сознания. Более того, обращение к фольклорным образам дает исследователю возможность увидеть и понять глубинные ценностные основы не только национальной, но и общечеловеческой культуры от времени ее образования до настоящего периода.
Человеческие отношения отражены в фольклоре во множестве сюжетов и образов. Безусловно, отношения семейные также находят в устной народной традиции достойное место. Отношения мужа и жены, родителей и детей отражаются в сюжетах народных сказок, эпических преданий, былин, заговоров и т. д. Таким образом, фольклор дает все существующие модели отношений «родители – дети»: «мать – отец», «мать – дочь», «мать – сын», «отец – дочь», «отец – сын».
Анализируя данные модели семейных отношений, мы можем определить те черты, которые составляют суть образа отца и матери в фольклорном наследии того или иного народа. В данном ключе интересно проследить, насколько эти образы родителей являются общечеловеческими, иначе говоря, насколько глубоко они уходят своими корнями в пракультуру человечества. А для этого нам необходимо сравнить между собой мифологические представления об отцовстве и материнстве двух народов, соприкасающихся друг с другом, но тем не менее происходящих из разных этнических общностей. В связи с этим в качестве объекта исследования мы выбрали наследие русской и карельской фольклорной традиции. Заметим также, что мы опирались в основном на источники, так или иначе отражающие не только христианскую, но и языческую картины мира, позволяющие изучить глубинные основы древних мифологических представлений о сущности родительства русских и карелов. Следовательно, целью данной работы стало определение основных черт мифологем «мать» и «отец» в фольклорной ментальности русского и карельского этносов и сопоставление этих черт друг с другом [8].
Теоретико-методологической основой исследования послужили труды по истории и теории фольклора и народной культуры В.И. Даля, В.Я. Проппа, Б.А. Рыбакова, Н.Д. Андреева и др. Методами исследования стали этнолингвистический, сравнительно-исторический и структурно-семантический.
Как известно, русские (восточные славяне) и карелы происходят из двух разных этнических групп. Приступая к анализу русской и карельской фольклорной традиции, мы не можем не заметить, что обе они испытывают на себе большое влияние мира языческой культуры. Даже после крещения Руси Владимиром и стремления новгородских князей с XIII в. христианизировать карел языческие традиции прочно сохранялись в устной традиции обоих народов, отразившись в широко известном феномене двоеверия. Таким образом, мы можем говорить о большом значении мифологизмов в фольклорной ментальности двух этих этносов.
Соответственно, мифологемы «мать» и «отец» находят свои истоки в древнейших представлениях о Матери-земле и Небе-Отце. Супружество рождающих божественных ипостасей является од- ним из общечеловеческих мифов, запечатленных еще со времен архаических цивилизаций (Древнего Египта, Месопотамии и др.). Е.В. Антонова отмечает: «Находящемуся на небе отцу – сияющему небу – соответствует оплодотворяемая небом обожествляемая земля (часто в противоположность светлому – “темная”, “черная”) как женское божество мать. Наличие таких сложных сочетаний, как “небо – земля”, дает основание предполагать мифологический мотив единства неба и земли как некой древней супружеской пары – прародителей всего сущего» [3, с. 529].
В восточнославянском фольклоре дуалистичность этих образов также нашла свое яркое воплощение. По мнению О.Г. Радченко, примером тому служат различные жанры фольклора: загадки ( Мать – низко, отец – высоко ); заклинательные формулы ( Ты, Небо – отец, ты Земля – мать! ); приговоры при сборе целебных трав ( Отец-небо, земля-мать, благослови свою плоду рвать!.. ; Мать-земля, отец-небо, дайте рабам вашим от этой травы здоровья! ); заговоры (например, заговоры на поход, используемые для расположения кого-либо (власти, начальства, судьи) в свою пользу: в заключительной части таких заговоров часто используется формула К тем словам небо и земля – ключ и замок , как бы скрепляющая нерушимость произнесенных слов); поговорки, отражающие связь Неба и Земли ( Даст небо дождь, а земля – рожь; Без дождя и трава не растет; Не земля родит, а небо ). При этом образ божественного Отца ассоциируется с огнем и светом, проявляющимися в свечении, белизне, яркости (отсюда фольклорное «свет-батюшка»), а образ божественной Матери неразрывно связан со стихией воды, т.е. с влагой ( мать-сыра-земля ) [35, с. 19–25].
Как полагают многие ученые, образ Матери-сырой-земли, божественной супруги Неба, олицетворяющей землю, орошаемую влагой и взращивающую на себе посевы, был центральным образом древнерусского фольклора. Так, Г.Д. Гачев отмечает, что столь высокое значение Матери-сырой-земли связано с особым восточнославянским мировосприятием, «широтой» души, обусловленной широтой родных просторов [6, с. 92].
Н.И. Толстой полагает, что один из важных эпитетов, применимых к земле в русском фольклоре, – святая . Мотив святости отражен также в запрете плевать на землю и вонзать в землю режущие предметы (например, нож). «Святость» Матери-земли использовалась при произнесении клятв ( Клянусь Матерью-землей! ) [40, с. 11]. Таким образом, родная земля служила оберегом, являлась символом нравственной правды – ею клялись, к ней припадали.
Как пишут Г.Г. Кириленко и Е.В. Шевцов, на Руси с давних времен бытовала такая традиция: сын, оскорбивший публично мать или отца, должен был обязательно произнести клятву покаяния, троекратно перекреститься, глядя на небо, после чего поцеловать землю [27]. Г.П. Федотов замечает, что культ Матери-сырой-земли был у русских «настолько силен, что был официально введен Владимиром в канон русских божеств под именем богини Мокошь и позже, в условиях соперничества язычества с христианством, был сопоставлен с Богородицей Марией. Более того, «языческий культ Матери-земли, концентрируя в себе религиозные чувства народа, пережил века и в философии XIX в. явился символом русской “Вечной Женственности”, олицетворяющей материнство, доброту, милосердие» [44, с. 66–82]. При этом Федотов полагает, что благодаря этому древнему культу в восточнославянской народной традиции были сформированы представления как об идеальном материнстве, так и о преобладании коллективного начала над личностным [45, с. 66–82].
В другой своей работе «Стихи духовные» Федотов рассматривает три ипостаси образа матери, сложившиеся в восточной славянской традиции: Богоматерь, мать, Родина. «В кругу небесных сил Богородица, в кругу природного мира – земля, в родовой социальной жизни – мать, являются на разных ступенях космической божественной иерархии носителями одного материнского начала. “Первая мать – пресвятая Богородица, / Вторая мать – сыра земля, / Третья мать – как скорбь приняла…”» [46, с. 78]. На этом основании ученый подчеркивает особенность понимания образа Богородицы на Руси, когда в ее облике главным являлось материнское начало, в отличие от католического понимания святости Марии как прекрасной Девы.
Уважительное отношение к материнству, связанное с культом Матери-земли, сохранилось во множестве русских пословиц, поговорок, изречений ( Матушка-кормилица, сыра-земля родимица! ; Не лги – земля слышит ; Грех землю бить – она наша мать ; Питай – как земля питает, учи – как земля учит, люби – как земля любит ; Земля-мать – подает клад ; Не роди, мати, на белый свет. Не роди, Мать-сыра-земля; Этого греха и земля не снесет. Как его, грешника, Мать-сыра-земля носит! ; Пускай будет по-старому, как Мать поставила ; Батьку, матку земля взяла, а нам, деткам, воля своя [8]; Земля-матушка живых питает, а мертвых к себе принимает ; Пораздвинься-ко ты, матушка сыра земля… [29, с. 165]). Защищающая функция земли, как матери, раскрывается в русских воинских заговорах-оберегах: Подите вы, железо, камни и свинец в свою мать землю ; Мать-сыра-земля, ты мать всякому железу, а ты железо поди в свою матерь землю ; Встану я рано утренней зарей, умоюсь холодной водой, утрусь сырой землей [36, с. 243–245]. Образ сырой земли также связан и с нравственным запретом ( Мать-сыра-земля говорит нельзя ) и Родиной ( Русь святая, православная, богатырская, Мать святорусская земля ) [9].
Как свидетельствуют русские фольклорные источники, большое количество заговоров начиналось с обращения к Матери-Сырой-земле (либо она была участницей заговорного события). Культ Матери-Сырой-земли просматривается также в суеверных средствах лечения. Причем мы можем встретить примеры заговоров, в которых происходит полное слияние образов Матери-сырой-земли и Богородицы и находит воплощение еще один известнейший архаический образ – мирового древа: На море на Окияне, на острове Кургане стоит белая береза, вниз ветвями, вверх кореньями; на той березе Мать Пресвятая Богородица шелковые нитки мотает, кровавые раны зашивает... [42].
Такие же фольклорные мотивы проявляются и в письменных произведениях древнерусской литературы. Например, в «Сказании о Мамаевом побоище» есть эпизод, в котором Мать-земля перед Куликовской битвой плачет о детях своих – русских и татарах, которым только еще предстоит погибнуть в кровавой сече.
Однако для исследователя народной традиции сохраняет свою актуальность вопрос о том, насколько соотносятся между собой почитаемый образ божественной матери (в облике Матери-Сырой-земли, Богородицы Марии, родины) и обычной земной матери. Найти ответ на этот вопрос найти не так просто, т.к. фольклорные источники дают нам самый разнообразный, а порой и противоположный друг другу материал. С одной стороны, мы не можем не согласиться с мнением М.В. Мелексетян, полагающей, что во многих произведениях бытового обрядного фольклора, в свадебных и похоронных песнях в особых эпитетах дается характеристика идеального образа матери. Ее называют заступницей , помощницей , печальницей . Такая характеристика связывает образ земной матери с небесным высшим материнским образом. Недаром Богородицу в народе назвали скорой помощницей, теплой заступницей , печальницей , защитницей рода христианского , молебницей Богу о людях . В похоронных заплачках выражалась также глубинная связь матери с Матерью-сырой-землей, в девичьих свадебных причитаниях при разлуке с «матушкой» и родным домом так же, как в рекрутских песнях, образ матери был связан с образами родных мест, родины [30, с. 207]. С другой стороны, изучение русского быта, семейных обычаев, а также фольклорных произведений не позволяет говорить о том, что в данной традиции сложилось особое представление о «святости» материнства, выразившееся в глубоком почитании земной женщины-матери. Скорее, речь может идти о безусловном уважении к матери, признании мистической силы рождающей женщины, ее магическом знании, связанности с потусторонним миром во время беременности и родов, стремления использовать ее силу во благо ребенку ( Материнская молитва со дна моря достанет ) и даже страха перед нею (согласно народным представлениям, материнское проклятие неизбежно влечет беду, оно – самое страшное).
Исходя из этого, трудно не согласиться с мнением В.Н. Дружинина, полагающего, что в язычестве женщина не являлась существом, полностью подчиненным мужчине, а была носительницей особой женской силы, такое женское могущество являлось причиной ее власти над мужчиной и внушало страх, почтение и даже ненависть [31, с. 46]. По всей видимости, материнство считалось высшей сту- пенью этой женской силы, выступало как мистическая связь с потусторонним миром, поэтому и вызывало уважение у окружающих. Это проявляется, например, в том, что в произведениях русского фольклора четко разделены между собой образы «бабы» и «матери» так же, как «мачехи» и «матери».
Разделение образов «бабы» и «матери» хорошо заметно на таком материале, как пословицы русского народа, собранные В.И. Далем. Пословиц о «бабе» с негативной семантикой в этом сборнике большинство. Подчеркиваются такие отрицательные ее качества, как глупость ( Волос долог, да ум короток ), болтливость ( Бабий кадык не заткнешь ни пирогом, ни рукавицей ), гневливость ( Женское сердце, что котел кипит ), лживость ( Бабья вранья и на свинье не объедешь ), упрямство ( Мужик тянет в одну сторону, баба в другую ), ненадежность ( Кто бабе поверит, трех дней не проживет ), связь с нечистой силой ( Куда черт не поспеет, туда бабу пошлет ). Утверждается превосходство над нею ее мужа ( Курица не птица, а баба не человек ) [9].
Однако нет таких пословиц, где у матери обнаруживаются эти стереотипные «бабьи» черты: сварливость, отсутствие ума, болтливость. Напротив, мать предстает перед нами как носительница лучших женских качеств. Все это свидетельствует и о том, что именно в образе матери находят свое воплощение традиционно женские положительные черты характера. Мать рассматривается как любящая, добрая, милосердная, заботливая женщина, стремящаяся «вымолить» грехи своих детей у Бога: Днем денна моя печальница, в ночь ночная богомольница ; При солнце тепло, а при матери добро ; Мать праведна – ограда камена ; Мать плачет (по детищу) не над горсточкой, а над пригоршней ; Жена для совета, теща для привета, а нет милей родной матери ; Нет лучшего дружка, чем родная матушка ; Родная мать и высоко замахивается, да не больно бьет . В этом ключе показательна пословица, которая разделяет образы «матери», «жены» и «невесты», придавая матери высшее значение: Мать плачет, что река льется; жена плачет, что ручей течет; невеста плачет – как роса падет; взойдет солнце – росу высушит (В.И. Даль) (Там же). То же самое мы можем увидеть и в русских сказках. Например, в одной из них дети говорят царю, что все делают так, как им скажет мать, живут по ее наукам («О трех богатырях – вечернике, полуношнике и световике»). Интересно, что русская народная волшебная сказка редко показывает конфликтные отношения между матерью и сыном и практически не дает конфликтной ситуации между родными матерью и дочерью.
Уважение к матери считалось первой нравственной заповедью детства. Публикуя старинную пословицу Держи матерь во чти и в матерстве , т. е. почитай, чти ее, В.И. Даль слово матерство объясняет как достоинство матери (Там же). Нарушившему ее угрожает проклятие: Укоряющего старость материю, да исклюют его вранове, да съедят орли [4, с. 63].
В карельском устном народном творчестве мы также встречаем образ Матери-земли. В знаменитой «Калевале» в руне о создание мира и рождении дочь воздуха Вяйнямейнена Ильматар опустилась с небес на воды. На ее колено села пролетавшая утка и свила гнездо, в котором снесла золотое яйцо. Ильматар пошевелила коленом и яйцо разбилось, произведя творение мира:
Из яйца, из нижней части, Вышла Мать – земля сырая;
Из яйца, из верхней части,
Встал высокий свод небесный [20, с. 6].
Подобное сопоставление образов матери и земли сохранилось и в карельской народной пословице: Береги землю любимую, как мать родимую [32]. Наравне с обращениями к земле присутствуют в фольклоре карел обращения к Пресвятой Богородице за помощью (заметим, что карелы, как и русские, приняли православие). Например, в одном из заговоров читаем: Мати Мария, царица небесная! <…> И тако же сними и останови у раба (имрек) призорныя причинныя болезни — от ветра, от воды и от всякой худобы [23].
Мифологема «Мать-Земля» связана и с образом «хозяйки земли». В «Калевале» есть такое обращение: Мать полей, земли хозяйка! [20, с. 14]. Л.И. Иванова называет образ хозяйки земли неким обобщающим образом карельской мифологической прозы. Исследовательница описывает связанные с этим образом обряды: при строительстве нового дома в подполье деньги клали, что это земля куплена: Мать земли, красивая, милостивая, это куплено, за это я деньги плачу; когда входили в новый дом, необходимо было отнести сначала «тесто», положить сверху икону и при этом сказать:
Как это тесто поднимается,
Так пусть наша жизнь становится лучше.
Здравствуй, земля, суша,
Здравствуй, равнина,
Здравствуй, хозяин земли,
Здравствуй, хозяйка земли,
Здравствуйте, сыновья, дочери,
Здравствуйте, слуги, работники, Здравствуйте, золотые короли.
Дайте мне покой, здоровье, Как мне Бог помогает жить.
Сохранился и такой обряд: «Хозяйка кланяется и говорит: “Здравствуй, Мария, мать-земли-кор-милица, дай здоровья моим животным!” Поклонится матери-земле и говорит: “Смотри, береги мою скотину”. В случае такого заболевания необходимо было просить прощения у хозяйки земли: “Хозяйка земли, мать хозяйки земли. Хозяйка банной земли, Забери болезнь от человека Анны”» [15].
Заметим, что в этом Калевальском эпосе присутствует не только образ Матери-земли, но и образ Матери воды (Ильматар), связанной с актом творения мира, что отчасти объяснимо и географическим положением карельской земли (около больших водоемов), и древнейшем пониманием воды как первоосновы всего сущего. Более того, обращений к Матери воды в тексте эпоса встречается достаточно много:
Ты, о Мать воды, явися, <…>
В чистоте из тины выйди,
Мужу слабому защитой,
Мне, герою, исцеленьем,
Чтоб невинный пожран не был,
Чтоб живой не взят был смертью!
<…> Дочь прекрасная творенья,
Ты, краса, златая дева,
Ты, древнейшая из женщин,
Ты, что мать была всех раньше,
Посмотри на эти боли,
Отврати мое несчастье,
Удали страданья эти
И мучителя извергни [20, с. 133]
Важным для нас представляется и тот факт, что в карельской народной культуре, как свидетельствует источники, уважительное отношение к женщине было нормой поведения [21, с. 664]. На основании этого факта О.П. Илюха делает вывод о том, что в Карелии статус женщины был несколько выше, чем в центральных областях России [18]. При этом исследовательница замечает, что отношения в карельской семье строились на ласке, доброте, снисходительности, особенно важны были эти качества при воспитании детей матерью [19].
Данное обстоятельство проявляется и в том, что в карельской устной народной традиции мы не находим глубокого разделения между образами «бабы» и «матери». Изредка, правда, образ бабы с некоторой негативной семантикой встречается в сказках, пословицах и поговорках (например: Баба была сердита на город, а город и не подозревал об этом [24]), но по сравнению с русским устным народным творчеством в карельском фольклоре встречается лишь малое количество таких примеров.
При этом образ земной матери во всех фольклорных жанрах карелов представлен чрезвычайно выразительно. Это отражается и в пословицах ( Без отца – сирота, без матери – вдвойне ; Сердце матери – в дитяти, а у дитяти – в камнях да пнях [24] (ср. русскую пословицу: Матернее сердце в детках, а детское в камне [9])).
В «Калевале» образ матери – один из центральных. В эпосе постоянно подчеркивается высокий статус матери и женщины: Молвил юный Еукахайнен: / «Мой отец во многом сведущ, / Мать намного больше знает» [20, с. 17]. Более того, в повествовании постоянно присутствуют матери главных героев. При этом мать наделяется самыми положительными эпитетами: родная , милая , дорогая , золотая , голубка , любимая , бедная , несчастная . Подчеркиваются ее стать, мудрость, почтенный возраст (здесь используется постоянный эпитет седовласая или выражение милая старушка ). Образ родной матери связан и с устойчивым образом слез. Мать изображается печальницей о своих детях: Мать тогда по милой дочке, / По исчезнувшей девице / Горько, горько зарыдала (Там же, с. 33); Каукомъели мать тотчас же / Начинает горько плакать: / «Горе матери несчастной, / Время горькое настало! / Вот уж милый мой сыночек, / Дитятко мое родное, / До плохого часа дожил!» (Там же, с. 108–109); Мать тогда заплачет горько, / Причитать начнет старушка: / «Там теперь мой сын, бедняжка, / Там любимец мой несчастный» (Там же, с. 279).
Образ матери в эпосе связан и с нравственным запретом ( Запрещает мать-старушка: / «Вяйня-мейнена не трогай, / Песнопевца Калевалы» (Там же, с. 42)), и с мудрым советом сыну Лемминкяйне-ну, который тот, однако, не выполняет и погибает от руки врага ( Мать его остерегает, / Отговаривает сына: / «Ты не сватайся, сыночек, / К деве той, что выше родом: / Ведь тебя там не потерпят, / В роде Саари очень знатном» (Там же, с. 78)).
Неоднократно в «Калевале» подчеркивается магическая сила матери. Так, в руне пятнадцатой повествуется о том, как мать Лемминкяйнена, узнав о гибели сына, при помощи заклинания и мазей возвращает его к жизни. В другом эпизоде эпоса мать не погибает вместе со своим ребенком от злых чар, потому что обладает тайным знанием: Мать имела больше знаний, / Не сошла мать в царство Маны; / Заклинать огонь умела, / Знала, как изгнать то пламя (Там же, с. 399).
Особое значение занимает в народных традициях и образ Небесного Отца. У восточных славян божеством, принявшим на себя функции Отца-неба, а вернее, ставшим одной из его ипостасей, «сидящим на воздухе», «ездящем на облаке» и «повелевающим землей», Б.А. Рыбаков называет Рода. «Сва-рог (“Небесный”), Стрибог (“Бог-отец”) и Род (“Рождающий”) – все эти слова могли означать одно мужское божество» [38, с. 416]. Именно поэтому после крещения Руси образ Небесного Бога-Отца достаточно органично вписался в религиозное сознание русских. Понимание Бога как отца всех людей прослеживается в произведениях русского фольклора: Как Бог до людей, так отец до детей [9].
При этом в облике Бога подчеркиваются, в первую очередь, его строгость, требовательность и только уже потом родительская любовь и милосердие. Именно на это обстоятельство обращали внимание многие отечественные ученные. В частности, П.Ф. Каптерев, анализируя наиболее популярные книги Древней Руси, замечает, что это, в основном, произведения из Ветхого завета, поучительные тексты, подчеркивающие величие Бога, обязательность выполнения людьми его религиозно-нравственного закона. В ту же очередь в этих текстах обосновывалась модель доминирования отца над матерью и над детьми [22, с. 6].
Позже подобная позиция была зафиксирована в знаменитом «Домострое», первая редакция которого составлена в Великом Новгороде в конце XV – начале XVI в. Эту же модель отношений мы можем проследить и в русской пословице Небо – престол Бога, земля – подножие [9], которую можно трактовать в том числе и как доминирование мужского начала (неба) над женским (земля).
Интересен тот факт, что образ отца изредка сопоставляется в русском фольклоре с образом медведя. Данное народное представление отчетливо проступает в сборнике А.Н. Афанасьева «Народные русские сказки» и в других фольклорных произведениях (например: Твой отец — медведь! (поддевка) [37, с. 371]). По всей видимости, оно связано с несколькими обстоятельствами: с древнейшим почитанием медведя как образа (иконы) Бога (данная гипотеза принадлежит известному религиоведу А.Б. Зубову [13]), а также отождествлением отцовской силы с силой медведя. Неудивительно, что образ отца в русских также сопоставляется с образом царя, дающего своим сыновьям задания и требующего от них послушания. Образ царя-батюшки – это тоже образ владыки, который, с одной стороны, несет ответственность за своих детей, а с другой – волен распоряжаться их судьбами.
Подобное отношение к земному отцу донесли до нас и произведения устного народного творчества. Например, в русских пословицах, собранных В.И. Далем, подчеркиваются такие качества отца, как строгость, требовательность ( Любимого сына жезлом. Дал Бог сыночка, дал и дубочка ; Не наказанный сын – бесчестие отцу [9]) и ответственность ( Валяй, дети: отец в ответе (Там же)).
Как отмечает Т.А. Новичкова, отец в русских сказках часто выступает в роли судьи: он может казнить или миловать своего сына. В сказках отцовское воспитание заключается в наказании сыновей, порой в изгнании их из дома. Наказание отцом своих сыновей отражено в «Сказке об Иване-царевиче, жар-птице и сером волке», а также в «Сказке о молодильных яблоках и живой воде». Мотив воспитания дочери отцом для сказки не характерен, но мотив заключения дочери отцом в сказке может интерпретироваться как наказание отцом героини за какие-то проступки [31].
По всей видимости, поэтому отношения между отцом и сыном в русской народной сказке могут строиться на основе как конфликта (сын не повинуется отцу), так и любви (послушания сына). Сказка часто дает модель отношений «строгий отец – нарушивший запрет сын», что напоминает притчу о блудном сыне. Подобные отношения даны в сказках типа «Булат-молодец», «Чудище – Медный лоб». Отец может и изгнать сына из дому за неповиновение. Например, в «Сказке про Ивашку худого поваришку» герой отказывается рассказать отцу сон, в котором он видел себя царем, а отца в подчинении у себя. Дочери в сказках также, как правило, подчиняются отцу. Довольно часто дочери по приказанию отца начинают выбирать себе женихов. Важно и то обстоятельство, что если отец проявляет нетрадиционные качества мужского характера – мягкость, безответственность, податливость (например, как это происходит в сказке «Морозко», в которой отец, потакая своей второй жене, отвозит родную дочь от первого брака на верную гибель в лесу), он всегда осуждается.
На основе целого ряда источников мы можем утверждать, что в русском устном народном творчестве сложилось устойчивое обращение отец-мать , предполагающее уважительное отношение к родителям, прошение их благословения и т. д. Такое обращение мы можем встретить в пословицах ( Отца-мать попрятал, в свою голову завякал ; У отца-матери за пазушкою (т. е. в родительском доме); Наперед икону целуй, там отца и мать, а там хлеб-соль ; Все купишь, а отца-матери не купишь ) [9]; свадебных приговорах ( Встань, отец, в отецкое место, / мать – в материнское! / Благословите своим великим благословением / ехать нам под кудрявые облака ) [34].
И все-таки, как отмечают некоторые ученые, образ отца в русском фольклоре представлен менее ярко, чем образ матери. Данное обстоятельство связано с тем, что матери в русской семейной педагогике отводилась главная роль, а отцу – второстепенная. При этом отец являлся общепризнанным главою семьи, ее кормильцем и защитником, однако процесс воспитания детей часто ложился на плечи матери [28, с. 5–6]. Подобные представления нашли свое отражение и в русских пословицах: Отцов много, а мать одна (т. е. отца легче заменить); Ч то мать в голову вобьет, того и отец не выбьет ; Материна дочь – отцова падчерица (т. е. мать любит, так отец не любит); Без отца – полсироты, а без матери и вся сирота [9].
Близкое понимание образа отца мы встречаем и в карельском фольклоре. В первую очередь, необходимо отметить, что образ отца также берет свои истоки в представлениях о Небесном Отце. В частности, в эпосе «Калевала» мы увидим достаточно много обращений к верховному Богу Укко, который всегда именуется Отцом:
О ты, Укко, Бог верховный, Укко, ты, Отец Небесный, Ты, кто правит туч грозою, Облаками управляет! [20, с. 14];
О ты, Укко, Бог верховный, Ты, Отец и Бог небесный, Снизойди: тебя мне нужно! Снизойди: тебя зову я! (Там же, с. 63).
Герои, обращаясь к Небесному Богу-Отцу, часто не только просят у него помощи, но и подчеркивают присущие ему качества: силу и могущество ( О! Так есть Отец великий, / Есть творец, живущий в тучах; / Из мужей он самый сильный, / Из героев самый мощный! (Там же, с. 63)) и отеческую любовь к людям ( Хорошо создатель сделал, / Он, отец, любовью полный (Там же, с. 83–84)), готовность помочь им в трудную минуту ( Дорогой отец небесный! / С севера пошли мне тучу, / С запада пошли другую (Там же, с. 242); В банный жар сойди, Создатель, / В теплоту, Отец небесный, / Чтобы нам подать здоровье, / Чтоб спокойствие вернуть нам! (Там же, с. 380)). Заметим, однако, что, по мнению многих исследователей эпоса «Калевала», в нем отразились религиозные взгляды самого собирателя древних песен – Элиаса Леннрота, поэтому в тексте совмещаются два исторических типа человеческой морали – языческий и христианский [26].
В образе земного отца в карельском фольклоре также выделялись такие качества, как строгость и требовательность, твердость его слова. Так, до наших дней дошла загадка Что тверже твердого? (слово отца) [17].
При этом всегда подчеркивается уважение, которое испытывают дети по отношению к отцу, вера в то, что отец защитит их (особенно дочерей). Например, дочь в причитании так обращается к умершему отцу: Одна да единешенька, / Без кормильца света-батюшки, / Без желаннаго родителя; / Обомре у меня сердеченько – / Нет у меня надежиньки, / Ни великой уборонушки! [25].
В «Калевале» отец предстает перед нами как мудрый и могучий седовласый старец, требовательный, строгий, величественный, но любящий своих детей, поэтому стремящийся научить их как религиозным, так и нравственным правилам жизни:
Никогда отец мой прежде, Этот старец седовласый, Колдунам не поклонялся И не чтил сынов лапландских. Так говаривал отец мой, Так и я теперь промолвлю: «Защити, могучий Укко, Огради, о Бог прекрасный, Охрани рукою мощной!» [19, с. 280].
Интересно, что карельская народная сказка практически не дает примеров слабости отца. Например, в сказке «Пряхи у проруби», сюжет которой напоминает русскую сказку «Морозко», об отце говорится, что он сильно любил свою первую жену, а когда та умерла, по недоразумению взял в жены Сюоятар (образ нарицательный, обозначающий колдунью и злую женщину). Та, имея родную дочь, естественно, мучила падчерицу. Однако не отец по приказу второй жены отправляет свою родную дочь на погибель, а мачеха приказывает падчерице нырнуть в прорубь за упавшим веретеном. Таким образом, отец остается в неведении, он не знает, что творит его злая жена.
Однако и в карельском народном творчестве мы можем заметить, что образ матери зачастую ставится выше образа отца. Например, в карельском фольклоре встречаем ту же пословицу и значении отца и матери для ребенка, что и в русском: Умрет отец – полусирота, а мать умрет – круглый сирота [25].
Так же, как в русской фольклорной традиции, в карельском народном творчестве принято устойчивое обращение отец-мать , предполагающее уважительное отношение к родителям. Так, уезжающая из дома невеста всегда обращается к отцу и матери: Я благодарю тебя, отец, / За прежнюю жизнь! / Я благодарю тебя, мать, / Грудью меня вскормившая! [14, с. 69].
В эпосе «Калевала» читаем обращение к девушке, желающей выйти замуж и покинуть родительский дом: Твой отец иль мать родная, / Был ли то твой брат старейший / Ты надолго ведь уходишь, / Да, на месяцы, на годы, / На всю жизнь отца оставишь, / Мать, пока она на свете [20, с. 185]; Слушай речь мою, девица, / Ты была в дому цветочек, / На дворе отцовском радость, / Мать звала тебя ведь солнцем, / Ясным месяцем отец звал (Там же, с. 187). Или другое обращение героя, ищущего своих родителей: Ты, старушка дорогая, / Ты мне, милая, поведай: / Где отец мой проживает, / Мать моя живет родная? (Там же, с. 304).
Таким образом, изучив фольклорные источники русской и карельской традиции, мы можем выделить общие и различные черты мифологем «мать» и «отец» двух этих этносов. Мы видим, что образ матери в русской традиции тесно связан с мифологемой Матери-сырой-земли. При этом культ Мате-ри-сырой-земли сопоставляется с почитанием Богородицы и Родины. Однако высокое почитание материнства у русских сопровождается несколько пренебрежительным отношением к женщине (понятие «баба» становится, как правило, наименованием носительницы отрицательных женских качеств). Таким образом, в русском фольклоре разделяются понятия «матери» и «бабы», и если по отношению к первой уважение всегда сохраняется, то по отношению ко второй присутствуют насмешка, неприязнь и даже страх.
В карельской народной традиции мифологема Матери-сырой-земли также присутствует, однако она уходит на второй план, растворяясь в представлениях о материнской силе всех земных стихий. При этом материнство почитается весьма высоко. Наряду с этим почитанием присутствует уважение к женщине: образ «бабы» как злой и недалекой женщины выражен мало и встречается значительно реже.
Образ отца в русской и карельской народных традициях восходит как к языческой мифологеме «Небесного Бога-Отца», так и к христианскому пониманию Бога-Отца-Вседержителя. И в том, и другом этносах подчеркиваются такие качества отца, как строгость, требовательность, но при этом ответственность за судьбу своих детей и готовность помочь им. Указывается на власть отца над своими детьми, требование послушания его воле. Для карельской традиции менее характерен образ слабого отца, в русской традиции мы встречаем его чаще (например, в сказках, в которых муж-отец подчинен своей властной жене-мачехе). Дети в русском и карельском фольклоре более приближены к матери, чем к отцу, однако власть отца при этом непоколебима. Для обоих этносов также характерно почитание родителей при жизни и особенно после их смерти.
Изучая данные мифологемы в устной народной традиции двух народов, мы можем обратиться и к исследованиям К.Г. Юнга в области коллективного бессознательного. В частности, К.Г. Юнг обращает внимание на то, что образ матери неизбежно проявляется в фольклоре: «С этим архетипом ассоциируются такие качества, как материнская забота и сочувствие; магическая власть женщины; мудрость и духовное возвышение, превосходящие пределы разума; любой полезный инстинкт или порыв; все, что отличается добротой, заботливостью или поддержкой и способствует росту и плодородию» [49, с. 218]. При этом, по Юнгу, архетип матери не является единственным женским архетипом. Наряду с архетипом матери ученый рассматривает архетип «анимы», отождествляемый с женским началом, поэтому в фольклорных источниках понятие «мать» противопоставляется архетипу «анимы» (женщины/жены/бабы). При чем архетип матери – всегда положителен: «для мужчины мать с самого начала имеет явный символический смысл, чем, вероятно, и объясняется проявляющаяся у него сильная тенденция идеализировать ее» (Там же, с. 244). Архетип Отца по Юнгу определяет отношение человека к мужчине, к закону, к государству, к разуму, а пер- воначально архетип Отца может быть образом Бога, власти, борьбы, образом всех стихийных сил, готовых помочь или навредить.
Эту же мысль встречаем в работах Э. Фромма: он определяет мать как символ природы, земли, океана, бесконечной и безусловной любви. Отец, по мнению ученого, представляет другой полюс человеческого существования: «мир мысли, мир вещей, сделанных своими руками, мир закона и порядка, дисциплины, мир путешествий и приключений. Любовь отца – это любовь на определенных условиях» [48, с. 132]. К пониманию этого типа любви человечество приходит через монотеизм, когда Бог воплощает в себе любовь Отца. «В самой природе отцовской любви заложено то, что послушание становится главной добродетелью, а непослушание – главным грехом» (Там же).
Следует отметить и то обстоятельство, что мы зафиксировали глубокую схожесть понимания мифологем «мать» и «отец» в русской и карельской народных традициях. С нашей точки зрения, этот факт объясняется единоверием двух этих народов, т.к. именно в православии, по мнению В.Н. Дружинина, сложились представления о следующей модели семейных взаимоотношений: доминирует Бог-Отец, ниже его (в подчинении) Бог-Сын, ниже его Богородица-Мать, причем Богородица гораздо ближе к Сыну, чем Отцу. Дочь же, не входящая в эту триаду, но существующая в земном понимании семьи, является заместительницей матери, ее материнской сущности [12, с. 65–82]. По сути, подобная модель семьи характерна как для русских, так и для карелов, поэтому образы матери и отца в фольклорной ментальности русского и карельского народов, имея некоторые различия, все-таки очень близки друг другу. В результате нашего исследования были сделаны следующие выводы.
Во-первых, проведенный анализ русский и карельских фольклорных источников обнаруживает, что мифологемы «мать» и «отец» в фольклорной ментальности русского и карельского этносов достаточно близки друг другу. Связано данное обстоятельство, по всей видимости, не только фактом близкого территориального проживаниях двух этих народов, но и их единоверием (в русле православия). При этом как русская, так и карельская фольклорные традиции содержат в себе черты и языческого, и христианского мировоззрения. Однако языческое мировоззрение, на наш взгляд, более связано с мифологемой матери, а христианское – с мифологемой отца. Таким образом, языческие и христианские образы и мотивы обнаруживают последовательную генетическую связь и являются итогом общего исторического развития данных народов.
Во-вторых, мы можем утверждать, что реконструированная нами картина мира, отраженная в русских и карельских текстах устного творчества, подтверждает наличие в них общих мировоззренческих мифологических основ человеческой пракультуры: представлений о Богине-матери (земле) и Боге-Отце (Небе), положивших начало всему сущему. Данные мифологические представления являются универсальными для всего человечества, однако у каждого народа существуют особые, только ему присущие соотношения между этими мифологемами, что и создает основу национального мировидения и оценки мира.
В-третьих, мы можем отметить, что мифологемы (или мифологические архетипы по К.Г. Юнгу) матери и отца являются одними из важнейших концептов русского и карельского языкового сознания и занимают значительное место в языковой картине мира двух этих народов. Языковое выражение концепта «материнство» связано с понятиями эмоционального тепла, внимания, заботы, поэтому мать эмоционально ближе к своим детям, она выражает собой безусловную любовь. Языковое выражение концепта «отцовство» связывается с поведением в обществе, исполнением детьми нравственных и религиозных норм, разумностью и послушанием.
В-четвертых, мифологические архетипы «мать» и «отец» нашли яркое отражение в представлениях об отцовстве и материнстве в народной культуре русских и карелов. На основании этого в фольклоре двух народов сложились нравственно-религиозные традиции, определившие как идеальные представления о матери и отце, так и требование к детям глубоко почитать своих родителей, оправдание родительского авторитета и власти.
Список литературы Сопоставление мифологем «мать – отец» в русской и карельской фольклорной традиции
- Адоньева С. Б. Большаки и большухи//Фольклор. URL: http://www.folk.ru/Research/adonyeva_bolshak.php?rubr=Research-articles (дата обращения: 25.02.2012)
- Андреев Н. Д. Раннеиндоевропейский праязык. Л.: Наука, 1986
- Антонова Е. В. Очерки культуры древних земледельцев Передней и Средней Азии. Опыт реконструкции мировосприятия. М.: Наука, 1984
- Антология педагогической мысли Древней Руси и Русского государства, XIV-XVII вв./сост. С.Д. Бабишин, Б.Н. Митюров. М.: Педагогика, 1985
- Бонгард-Левин Г., Грантовский Э. От Скифии до Индии. Древние арии: Мифы и история. М.: Мысль, 1983
- Гачев Г.Д. Русский Эрос//Советская литература. 1990. № 5. С. 87-94
- Гоголь Н. В. Земледельческие праздники//Полное собрание сочинений: в 14 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1937-1952. Т. 9. С. 420-423
- Грицай Л.А. Идеалы родительского воспитания в русской традиционной культуре (на материале изучения устного народного творчества)//Общество: социология, психология, педагогика. 2012. № 4. С. 53-62
- Даль В. И. Пословицы русского народа. М., 1862. URL: http://www.slova.ru/book_toc/1.html (дата обращения: 25.02.2012)
- Данилова А. И. Проявление двоеверия в русском фольклоре // Социосфера. URL : http://sociosphera.ucoz.ru/publ/konferencii_2011/istorija_i_kultura_slavjanskikh_narodov_dostizhenija_uroki_perspektivy/projavlenie_dvoeverija_v_russkom_folklore/57-1-0-1135 (дата обращения: 25.02.2012)
- Демин В. Тайны русского народа. В поисках истоков Руси. М.: Вече, 1997. URL: http://lib.ru/DEMIN/tajny.txt (дата обращения: 25.02.2012)
- Дружинин В. Н. Психология семьи. СПб.: Питер, 2011
- Зубов А. Б. Доисторические и внеисторические религии. Курс лекций. М.: Планета детей, 1997
- Иванова Л.И. К вопросу об изучении свадебного обряда (по материалам первого фильма о карельской свадьбе)//Краеведческие чтения: материалы II науч. конф./сост. Н.П. Новикова. Петрозаводск: Нац. библиотека Респ. Карелия, 2009. С. 66-70
- Иванова Л.И. Хозяйка земли//Фольклористика Карелии. Петрозаводск, 1995. URL: http://www.vottovaara.ru/2010/karelia/karelia8_3.php (дата обращения: 25.02.2012)
- Ивашнева Л.Л. О взаимосвязи календарной и свадебной поэзии//Русский фольклор. Т. XVI. Л.: Наука, 1976. С. 191-192
- Илюха О.П. Детство в зеркале языка и фольклора Карелии//Народные культуры Русского Севера. Фольклорный энтитет этноса: материалы российско-финского симпозиума/отв. ред. В.М. Гацак, Н.В. Дранникова. Архангельск: Поморский университет, 2004. Вып. 2. URL: http://folk.pomorsu.ru/index.php?page=booksopen&book=2&book_sub=2_14 (дата обращения: 25.02.2012)
- Илюха О.П. Карельская семья в конце XIX -начале ХХ в.//Чело. 2006. № 2(36). URL: http://ladim.org/st0fba130501.php (дата обращения: 25.02.2012)
- Илюха О.П. Школа и детство в карельской деревне в конце XIX -начале ХХ в. СПб., 2007
- Калевала: карело-финский народный эпос/собрал и обработал Элиас Леннрот/пер. Л.П. Бельского. Петрозаводск, 1985
- Камкин Н. Архангельские карелы. Этнографический очерк//Древняя и новая Россия. 1880. № 4. С. 664
- Каптерев П.Ф. Новая русская педагогия, ее главнейшие идеи, направления и деятели. СПб., 1914
- Карельские народные заговоры//Карелия. URL: http://kartravel.ru/zagovorka.html (дата обращения: 25.02.2012)
- Карельские народные пословицы//Карелия. URL: http://kartravel.ru/poslovitsi.html (дата обращения: 25.02.2012)
- Карельские народные причитания//Карелия. URL: http://kartravel.ru/prichitanie.html (дата обращения: 25.02.2012)
- Карху Э. Г. «Калевала» -ее культурно-историческое и современное значение//Carelia. 1999. № 3. URL: http://www.kalevala.ru/epic.shtml (дата обращения: 25.02.2012)
- Кириленко Г. Г., Шевцов Е. В. Философские идеи в духовном наследии Древней Руси. Столкновение мировоззрений: язычество и христианство//Полка букиниста: библиотека. URL: http://society.polbu.ru/kirilenko_philosophy/ch16_i.html
- Кричевская Е. В. Историко-культурные представления о роли отца в российской семейной традиции: автореф. дис. … канд. пед. наук. СПб., 2009
- Круглый год. Русский земледельческий календарь/сост., вступ. ст. и примеч. А.Ф. Некрыловой. М.: Правда, 1991
- Мелексетян М.В. История развития и значение образа матери в русской поэзии//Вестн. МГОУ. Сер.: Рус. филология. 2009. № 2. С. 207-211
- Новичкова Т.А. Эпос и миф. СПб.: Наука, 2001
- Пословицы и поговорки//Олонецкие губернские ведомости. 1870. № 11. URL: http://ethnomap.karelia.ru/item.shtml?place_id=740&map_id=30138 (дата обращения: 25.02.2012)
- Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. Л.: Изд-во ЛГУ, 1986
- Приговоры свадебные//Русский фольклор. URL: http://rusfolklor.ru/archives/120 (дата обращения: 25.02.2012)
- Радченко О.Г. Дуалистичность рождающих образов в славянской мифологии (в аспекте гендера как культурного символа)//Гуманно-личностное пространство сопровождения семьи в реалиях XXI века: материалы I региональных педагогических чтений/под ред. Е.С. Евдокимовой. Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2009. С. 19-25
- Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия: в 2 кн./лит. обр. М. Забылин. М.: ТЕРРА; Книжная лавка -РТР, 1996. Кн. 1. Ч. 1
- Русское устное народное поэтическое творчество/сост. и авт. пояснит. ст. Ф.М. Селиванов. М.: Просвещение, 1972
- Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: София, Гелиос, 2002
- Сафронов В. А. Индоевропейские прародины: автореф. дис. … д-ра ист. наук. Киев, 1991
- Славянская мифология. Энциклопедический словарь. М.: Междунар. отношения, 2002
- Старинные русские песни М., 1959. URL: http://nevesta-kazan.narod.ru (дата обращения: 25.02.2012)
- Степанова Н.И. Заговоры сибирской целительницы. URL: http://fictionbook.ru/author/natalya_ivanovna_stepanova/zagovoriy_sibirskoyi_celitelniciy_viypusk_24/read_online.html?page=1 (дата обращения: 25.02.2012)
- Сурхаско Ю.Ю. Дохристианские верования карел//Семейные обряды и верования карел. Л., 1985. URL: http://www.k2000.ru/annodomini (дата обращения: 25.02.2012)
- Трубачев О.Н. Этногенез славян и индоевропейская проблема//Этимология. 1988-1990. М., 1992. С. 12-28
- Федотов Г.П. Мать-земля (к религиозной космологии русского народа)//Судьба и грехи России: в 2 т. СПб.: София, 1991. Т. 2. С. 66-82
- Федотов Г.П. Стихи духовные. М.: Прогресс; Гнозис, 1991
- Федотов Г.П. Сумерки отечества//Судьба и грехи России. М.: София, 1991. Т. 1
- Фромм Э. Искусство любить//Душа человека. М.: Республика, 1992. С. 110-179
- Юнг К.Г. Человек и его символы. СПб.: Б.С.К., 1996