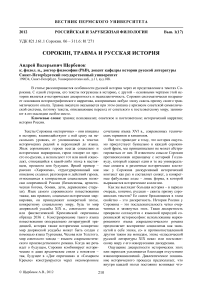Сорокин, травма и русская история
Автор: Щербенок Андрей Валерьевич
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Пространство В. Сорокина
Статья в выпуске: 1 (17), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются особенности русской истории через ее представление в текстах Сорокина. С одной стороны, его тексты погружены в историю, с другой - основными чертами этой истории является а-историческая дискретность и недиалектичность. Сорокин систематически подрывает основания историографического нарратива, воспринимая любую эпоху сквозь призму своего травматического опыта. Травма писателя оказывается при этом связана с кризисом советской символической системы, поэтому тексты, описывающие переход от советского к постсоветскому миру, занимают в его наследии особое место.
Травма, психоанализ, советское и постсоветское, исторический нарратив, история России
Короткий адрес: https://sciup.org/14729080
IDR: 14729080 | УДК: 821.161.1
Текст научной статьи Сорокин, травма и русская история
Тексты Сорокина «историчны» – они вписаны в историю, взаимодействуют с ней сразу на нескольких уровнях, от упоминаемых в текстах исторических реалий и персонажей до языка. Язык сорокинских героев всегда социально и исторически маркирован, герои говорят не просто по-русски, а используют тот или иной социолект, относящийся к какой-либо эпохе в настоящем, прошлом или будущем. Яркий пример – рассказ «Хиросима», структурированный как описание сходных разговоров и действий героев, относящихся к контрастным социальным полюсам современной России (бизнесмены, артистическая богема, бомжи, дети, деревенские старухи). Язык самого сорокинского повествования также, как правило, социально-исторически маркирован, он принадлежит конкретной эпохе, конкретному социальному миру, будь то мир дворянской усадьбы XIX в., советского завода или фантастической Кремлевской опричнины образца 2036 г. Конструирование такого языка повествования опосредовано литературной традицией, которая также исторически конкретна: мир дворянской усадьбы может быть создан с помощью языка Тургенева, Чехова или Толстого, мир советского завода – языком соцреалистиче-ского производственного романа. Когда же речь идет о будущем, Сорокин комбинирует исторические и даже архаические стили с новоязом – так, будущее в «Дне опричника» и «Сахарном Кремле» конструируется через оксюморонное сочетание языка XVI в., современных технических терминов и китаизмов.
Все это приводит к тому, что история ощутимо присутствует буквально в каждой сорокин-ской фразе, мы принципиально не может абстрагироваться от нее. В известном смысле Сорокин противоположен играющему с историей Голливуду, который одевает одни и те же универсальные сюжеты в различные исторические костюмы: у Сорокина дискурсивный исторический контекст как раз и составляет сюжет, а конкретные фабульные ходы – лишь форма, в которой выражаются исторические коллизии.
Как же выглядит большая история – в первую очередь, конечно, русская – сквозь призму соро-кинских текстов? Ее самое бросающееся в глаза свойство – это дискретность. История России у Сорокина – это последовательность четко очерченных и замкнутых эпох. Такая дискретность прекрасно согласуется с языковой природой со-рокинской историософии: использование маркированного языка соцреалистического романа предполагает восприятие социализма как замкнутой в себе эпохи, со- и противопоставленной другим таким же монадам, эпохе «классической русской литературы XIX века» или постсоветскому миру с его новорусскими дискурсами.
Ощущение дискретности исторических эпох или периодов усиливается благодаря отсутствию взаимопроникновений. Диалектическое понимание исторического процесса предполагает, что внутри каждой эпохи постоянно возникает что-
то новое, взаимодействующее с устоявшимся, и именно это взаимодействие двигает историю вперед. Однако дискурсивные стратегии Сорокина исключают такое понимание. Сорокин не просто воспроизводит какой-либо дискурс, он деконструирует его, – например, обнажая скрытое в языке насилие, которое вырывается на фабульный уровень и уничтожает не только сам язык, но и его носителей; классический пример такого текста – роман «Роман», кончающийся гибелью героя и жанра. В результате этой стратегии исчезает диахроническое измерение конфликтов: любой конфликт оказывается имманентен данной эпохе. Демонстрируя синхроническое разрушение языка эпохи изнутри, нельзя продемонстрировать его диахроническое разрушение в результате столкновения с дискурсивными тенями надвигающихся исторических изменений. В том же «Романе» гибель языка классической литературы не связана с надвигающимся модернизмом – он разрушается изнутри. Революция невозможна в мире «Романа» или во многом аналогичного рассказа «Настя» не потому, что этот мир идилличен и стабилен, а, напротив, потому, что он насквозь пронизан травматическими разрывами, не оставляющими места для собственно исторических противоречий.
Аналогичным образом в сборнике рассказов «Первый субботник» воспроизводимое в каждом рассказе крушение соцреалистического повествования не связано с исторически артикулированным кризисом советской идеологии – и там, и в «Норме» соцреалистический дискурс деконст-руируется независимо от того, идет ли речь о заводском начальстве, влюбленных или бомжах. Не случайно в романе «Тридцатая любовь Марины» стандартный исторический нарратив – движение от коммунистических убеждений к диссидентству – оказывается легко обратим: и языковой мир газеты «Правда», и языковой мир андер-граундной рок-тусовки, и языковой мир диссидентствующей творческой интеллигенции расположены у Сорокина не во времени, а в пространстве, они симметрично со-существуют и сталкиваются в сложном целом языкового мира позднего СССР, и столкновение между ними может с одинаковым успехом разрешаться в любую сторону. Поскольку любая эволюция героя замкнута внутри базового травматического ядра эпохи, она не является исторической в диалектическом смысле этого слова.
Сорокин не только рисует вселенную, в которой не может возникнуть связный историографический нарратив, но и систематически декон-струирует уже существующие в читательском сознании историографические модели. Так, рассказ «Аварон», с одной стороны, описывает
Большой террор 37-го года в рамках либерального взгляда на историю: мать главного героя – это либеральный субъект, чья семья будучи невиновной попадает в жернова сталинских репрессий и противопоставляет семейные узы пыточной машине НКВД, в результате чего мать чудом остается в живых, а ее муж и сын погибают. Однако сама природа этого «чуда» оказывается связана с мистической природой коммунистического проекта, а спасающий мать ценой своей жизни сын говорит перед смертью «пусть сияет». Это отсылает нас к совершенно другому, нелиберальному историческому нарративу – в результате оба они аннигилируют, а мать выходит из тюрьмы не в историческую реальность предвоенной Москвы, а во вполне а-историческое метафизическое пространство, «чтобы прожить на планете Земля еще 43 года» [Сорокин 2001: 137].
В этой связи особый интерес представляют тексты Сорокина, охватывающие несколько эпох. Каким образом описываются в них переходы от одного исторического периода к другому? Очень симптоматично пристрастие Сорокина к повторяющимся паттернам, когда, как например в «Ледяной трилогии», одни и те же ритуальные действия совершаются совершенно разными героями в совершенно разные эпохи. Подобная повторяемость как раз и демонстрирует невозможность исторической эволюции – сюжет, формально охватывающий целое столетие русской истории, на поверку оказывается чисто метафизическим и вневременным. Теории заговора, тайные союзы, магические ритуалы, столь часто встречающиеся у Сорокина, непосредственно коррелируют с невозможностью собственно исторической эволюции.
Кризис диалектического исторического сознания в текстах Сорокина сам является симптомом. Во многом он соответствует психоаналитической теории травмы, разработанной на основе работ Фрейда Ж.Лапланшем и К.Карут (см.: [Laplanche 1976; Caruth 1995, 1996]). Травма, согласно этой теории,
– нелокализума во времени,
– проявляется через навязчивое повторение и воспроизведение,
– доступна для сознания только через ее символы,
– недоступна для проработки и преодоления.
Травматическая фиксация замыкает субъекта в круге навязчивых повторений, которые указывают на травму, но не репрезентируют ее напрямую [Фрейд 2010: 5–137]. Именно это мы и наблюдаем в сорокинских текстах – и отсутствие исторического развития, и повторяющаяся симптоматика, и обнаружение травматических противоречий в основе любого языкового мира. При этом каковы бы ни были детские травмы самого писателя (см., например: [Сорокин 1992], а также рассказ «Дорожное происшествие» [Сорокин 1998в: 552-564]), их конкретное содержание определяет лишь характер его травматических фиксаций, в то время как общая форма замкнутого на невысказанной травме а- и псевдоисторического повествования соотносится с гораздо более общими структурами, разделяемыми массой людей, переживших крушение советского символического поля. Именно этот символический коллапс придал общественно-историческую значимость сорокинским идиосинкразиям.
В этой перспективе особое значение приобретают те тексты, где распад советского изображается непосредственно – именно в этих текстах у Сорокина все же возникает история как изменение, а не простое тасование типологической колоды. Изменение это, впрочем, столь же необратимо, сколь и немотивированно – именно невозможность понимания делает событие травматичным. Так, в рассказе «Лошадиный суп» жизнь героини, Оли, развивается в жесткой привязке к историческим событиям 80 – 90-х. Рассказ начинается в 1980 г., когда Оля встречает в поезде «Симферополь–Москва» Бурмистрова, странного человека, получающего неизъяснимое наслаждение от наблюдения за тем, как Оля ест. Оля начинает регулярно встречаться с ним, получая за свое представление деньги, а в это время жизнь идет своим чередом, рушится социализм, наступают «беспощадные 90-е», и исторические декорации ощутимо меняются. Однако в отличие от той же «Ледяной трилогии», где мистический ритуал с ледяным молотом и говорящими сердцами оставался неизменным и в сталинском СССР, и в постсоветской России, в «Лошадином супе» ритуал претерпевает необратимые изменения – с каждым годом в тарелке у Оли остается все меньше еды, и наконец она оказывается вынуждена есть пустоту.
Подобная логика исторического истощения как нельзя лучше репрезентирует взаимоотношения Оли со своим советским прошлым: с одной стороны, прошлое уходит в прошлое, с другой – зависимость от него только усиливается. Такая ситуация фатально предопределяет финал. Рассказ неслучайно начинается со слов «Как началось? Просто, как и все неизбежное» [Сорокин 2001б: 247]. Предприняв радикальную попытку начать новую жизнь, выйдя замуж и уехав в свадебное путешествие за границу, Оля обнаруживает, что не может есть: лобстеры не могут заменить ей пустоту на тарелке. Она вынуждена вернуться в Москву, но Бурмистрова, ставшего к этому времени новорусским бизнесменом, уби- вают, и Оля также погибает, воткнув вилку в щеку одного из убийц. Принципиально важна вынесенная на рамку рассказа смерть Оли: когда ей ломают ребра и она оказывается не в состоянии вдохнуть, сознание ее раскалывается между двумя временными планами.
«Трясясь и икая, Оля пыталась втянуть в себя хоть глОток хоть глООток хоть глООООООООООток воздуха, но воздух не вхо-дил-дил-дил в губы и как аборт как аборт как аборт как нар КОЗ как наркоз и глОт глОт глОт они розовые они красные они жгучие и пре-крАААсные МАМА и наркОООз уже уже уже уже уже уже
– ДАЛИ СЛАВИНОЙ НАРКОЗ?
– бабуль, а у меня сиськи вырастут?
– ДАЛИ СЛАВИНОЙ НАРКОЗ?
– сладкиеботинкисладкиеботинки.
– ДАЛИ СЛАВИНОЙ НАРКОЗ?
– ёжик несет гриб.
– ДАЛИ СЛАВИНОЙ НАРКОЗ?
– не вынимай, <…> лепило вынет!
– ДАЛИ СЛАВИНОЙ НАРКОЗ?
– Оля, что у тебя с сонатиной? <…>» [Сорокин 2001б: 315–316].
Центром Олиного сознания, на которое наслаиваются дискурсивные обрывки из советского детства и фрагменты текущей реальности, является аборт – событие, хронологически не фиксированное, отсутствующее в повествовании (из рассказа мы знаем только, что в 90-е Оля сделала второй аборт). В отличие от классического героя, который за несколько секунд перед смертью вспоминает свою жизнь, Оля не бредит о прошлом в настоящем – она заново переживает травматический момент, когда эти воспоминания действительно проносились у нее перед глазами (именно поэтому в Олином бреду нет воспоминаний из 90-х – тот первый аборт она, видимо, сделала достаточно рано). Мотивированная на «прагматическом» уровне сходством двух ситуаций – нехваткой воздуха – Олина невозможность вырваться за пределы советского детства имеет в контексте основной темы рассказа и метафорический смысл: историческое развитие невозможно, поскольку новый опыт не может вырваться за границы травматического события, которое он постоянно символизирует и тем самым воспроизводит. Даже смерть не может быть воспринята как таковая, поскольку для постсоветского субъекта она «всегда уже» произошла – в финале рассказа один из бандитов вонзил Оле в сердце трехгранное шило, но, как сказано в последнем предложении, синтаксически выделенном в от- дельный абзац, «она этого не почувствовала» [Сорокин 2001б: 317].
Схожий вариант замкнутости символического поля вокруг травматического ядра – коллапса советской идеологии – мы находим в сорокин-ском сценарии фильма «Москва». В «Москве» руинированные остатки советской цивилизации связываются с утраченным в постсоветской реальности смыслом. Однако само советское прошлое репрезентировано в фильме как место другой утраты, что подчеркивается его центральным топосом – могилой Неизвестного солдата, памятником «солдат[у], которого не было» [Сорокин 1998а: 736]. Одновременно советское прошлое – это место стремления к недоступному миру, представленному англоязычными шпионскими романами, которые читала в 1980-х золотая молодежь: самоубийство одного из представителей этой молодежи, разочарованного в новорусской реальности психиатра Марка, который съезжает на чемодане, набитом этими романами, с трамплина на Воробьевых горах, как нельзя лучше демонстрирует природу тоски по советскому как тоски по утраченной возможности тосковать. В посттравматическом постсоветском настоящем «Москвы» господствует меланхолия в психоаналитическом смысле: меланхолик знает, что за объект он утратил, но не знает, что именно он утратил в этом объекте [Фрейд 2009]. Поэтому исторический переход от советского к постсоветскому не может быть нарративно оформлен даже как история утраты: травматическая утрата разрушила сам язык, в рамках которого она могла бы быть концептуализирована.
Наконец, еще один симптоматичный соро-кинский текст на эту тему – сценарий к фильму «Мишень», артикулирующий нетрадируемость советского опыта далеко за пределы 90-х. Мишень – гигантское советское сооружение для фокусировки космических людей – обладает свойством останавливать старение людей, проведших в нем одну ночь. Те, кто испытал его действие на излете советской эпохи, продолжают жить и оставаться молодыми. Однако для тех, кто живет в «настоящем» фильма, воздействие советской мишени оказывается катастрофическим – они переживают некую этическую эманацию, которая приводит их к фатальному конфликту с окружающей постсоветской реальностью. Исторический разрыв, вызванный крушением советского проекта, не может быть преодолен, а советское «наследие» не может быть апроприировано.
Таким образом, лежащая в основе сорокин-ского восприятия истории травма делает невозможным концептуализацию истории как диалектического процесса. С одной стороны, сорокин-ские тексты проецируют травматические проти- воречия на различные исторические эпохи, придавая этим противоречиям имманентность и превращая эпохи в дискретные структуры, обладающие массой исторических черт, но лишенные собственно исторического измерения. С другой стороны, сорокинские тексты демонстрируют невозможность нарративизации перехода от одной эпохи к другой иначе, чем через нарратив истощения и навязчивого воспроизведения. Все эти дискурсивные особенности являются прямым следствием травмы с точки зрения ее психоаналитической теории. Поэтому тексты Сорокина представляют собой артикуляцию российского исторического сознания, сформировавшегося на основании травматического опыта 80 – 90-х, который во многом предопределил и основные параметры этого сознания.
Reader of History of Russian Literature Department
St. Petersburg State University
Список литературы Сорокин, травма и русская история
- Сорокин В. Аварон//Сорокин В. Пир. М.: Ad Marginem, 2001а. С.105-137.
- Сорокин В. День опричника. М.: АСТ, 2009. 288 с.
- Сорокин В. Забинтованный штырь//Wiener Slavistischer Almanach. Sonderband 31. 1992. S.565-568.
- Сорокин В. Лошадиный суп//Сорокин В. Пир. М.: Ad Marginem, 2001б. С.247-317.
- Сорокин В. Мишень (автор сценария)/реж. А.Зельдович. REN Film, 2011.
- Сорокин В. Москва//Сорокин В. Собр. соч.: в 2 т. Т.2. М.: Ad Marginem, 1998а. С.696-736.
- Сорокин В. Норма//Сорокин В. Собр. соч.: в 2 т. Т.1. М.: Ad Marginem, 1998б. С.21-260.
- Сорокин В. Первый субботник//Сорокин В. Собр. соч.: в 2 т. Т.1. М.: Ad Marginem, 1998в. С.411-594.
- Сорокин В. Роман//Сорокин В. Собр. соч.: в 2 т. Т.2. М.: Ad Marginem, 1998г. С.7-356.
- Сорокин В. Сахарный кремль. М.: АСТ, 2008. 352 с.
- Сорокин В. Тридцатая любовь Марины//Сорокин В. Собр. соч.: в 2 т. Т.1. М.: Ad Marginem, 1998д. С.595-798.
- Сорокин В. Хиросима//Современная русская проза. М.: Захаров, 2003. С.264-271.
- Фрейд З. По ту сторону принципа удовольствия. М.: Фолио, 2010. 288 с.
- Фрейд З. Скорбь и меланхолия//Фрейд З. Семейный роман невротиков. М.: Азбука-классика, 2009. 224 с.
- Laplanche J. Life and Death in Psychoanalysis. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1976. 160 p.
- Caruth C. (ed.) Trauma: Explorations in Memory. Baltimore and London: The Johns Hopkins UP, 1995. 288 p.
- Caruth C. Unclaimed Experience. Trauma, Narrative, and History. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1996. 168 p.