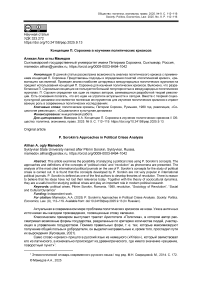Сорокина в изучении политических кризисов
Автор: Мамедов А.А. Концепции П.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассмотрена возможность анализа политического кризиса с применением концепций П. Сорокина. Представлены подходы и определения понятий «политический кризис», «революция» как явлений. Проведен анализ наиболее цитируемых международных политических журналов на предмет использования концепций П. Сорокина для изучения политических кризисов. Выяснено, что разработанные П. Сорокиным концепции не пользуются большой популярностью в международных политических журналах. П. Сорокин определен как один из первых авторов, занимавшихся разработкой теорий революции. Есть основания полагать, что его идеи не утратили актуальности и сегодня. Вместе с теорией социокультурной динамики они являются полезным инструментом для изучения политических кризисов и играют важную роль в современных политических исследованиях.
Политические кризисы, Питирим Сорокин, Румыния, 1989 год, революция, «Социология революции», «Социальная и культурная динамика»
Короткий адрес: https://sciup.org/149149103
IDR: 149149103 | УДК: 323.272 | DOI: 10.24158/pep.2025.9.13
Текст научной статьи Сорокина в изучении политических кризисов
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина, Сыктывкар, Россия, ,
Актуальная в современном мире проблема политических кризисов не нова. Уже в античных источниках мы находим произведения, посвященные этому явлению.
Классическим примером выступает трактат Аристотеля «Политика», в котором автор рассматривал возможные формы государства, разделенные по критерию количества людей, участвующих в управлении государством. Помимо правильных форм, т. е. тех, которые максимизируют получение общей пользы и добродетели, он выделил неправильные и, кроме того, проследил пути их вырождения (Кускашев, 2021).
Само слово «кризис» пришло в русский язык из немецкого («Krisis»), который заимствовал его из латинского, а изначально происходит из древнегреческого, где имело значение «решение, поворотный пункт»1.
Толковый словарь С.И. Ожегова определяет кризис как резкий, крутой перелом в чем-нибудь; обусловленное противоречиями в развитии общества расстройство экономической жизни; затруднительное, тяжелое положение1.
Более современный толковый словарь Т.Ф. Ефремовой дает схожие определения, однако, объясняя общественные проблемы, учитывает, что они могут происходить не только в экономической сфере, но и в других составляющих социума2.
К определению политического кризиса в отечественных исследованиях существует несколько подходов. Современные авторы отмечают, что «разница в интерпретациях была и остается поразительной» (Телин, Полосин, 2016: 94).
Н.С. Розов предлагает следующее определение: «Социально-политический кризис в государстве ‒ это конфликтный период, когда низовые протесты и недовольство элит настолько сильны, что их не удается погасить обычными действиями со стороны режима, поскольку они приводят к подъему и расширению протестов и недовольства» (Розов, 2017: 93).
О.В. Петренко в кандидатской диссертации «Политический кризис: генезис и эволюция теории» дает авторское определение политического кризиса: «Особая форма политического процесса, его переломный момент, характеризующийся переходным состоянием в развитии политической системы общества, ее дестабилизацией вследствие обострения противоречий в существующих политических отношениях»3.
Оригинальное определение дается О.В. Рогозяном, который считает, что «политический кризис – резкое (часто внезапное) обострение противоречий в системе политических отношений, вытекающее из состояния неустойчивости и нестабильности, которое может привести к серьезным изменениям в структуре власти, социума или политической системы в целом, которое может вызвать социальную катастрофу, гибель или развал системы, но также может послужить источником позитивных изменений и обновления системы»4.
К.О. Телин и А.В. Полосин предлагают обратиться к существующему опыту исследователей из других стран в концептуализации политического кризиса. Они приводят примеры определений представителей различных зарубежных школ, например, стэндфордской (Г. Алмонд, Р. Мундт, С. Флэнаган), модель которой предполагает, что при потере управляемости политическая система переходит в кризисное состояние, не имея возможности давать адекватные ответы на внутренние и внешние вызовы (Телин, Полосин, 2016). Другой важной концепцией в указанной работе называется школа исторического институционализма (Д. Кольер, Р. Кольер, П. Пирсон), которая определяет кризис как период значительных изменений, порождающий новую институциональную структуру в качестве своего «наследия».
В рассмотренных определениях мы можем выделить базовые черты, которые составляют основу дефиниции: это определенное состояние общества, которое имеет характерный признак ‒ стремительно возникшую дестабилизацию из-за существующих в обществе противоречий. В основном авторы выстраивают свои определения, используя дихотомию «политический кризис ‒ политический порядок».
Для нас более близкой будет дефиниция политического порядка, сформированная Г.В. Пушкаревой. По ее мнению, политический порядок как «объективированная система стандартизированных статусно-ролевых моделей политического поведения, как институциональная конструкция, формирующая особый порядок осуществления власти и управления в обществе, существует только потому, что в каждый конкретный момент люди принимают на себя соответствующие роли, взаимодействуют по правилам институционального порядка» (Пушкарева, 2016: 145).
Революции являются как одним из способов разрешения политического кризиса, так и наиболее ярким его проявлением.
По поводу того, что такое «революция», как и в случае с «политическим кризисом», не существует единого ответа. В одной из статей по истории изучения революции авторами было обозначено, что «разногласия научных школ в отношении понимания революции (истинной или ложной) нивелируются только в одном моменте – всеми исследователями революция признается социальным конфликтом» (Сиушкин, Милаева, 2017: 193).
В настоящий момент выделяется четыре поколения теорий революции, хотя некоторые авторы критикуют такой подход и предполагают, что не существует значимой методологической разницы в работах всех четырех поколений авторов по данной тематике (Шульц, 2015: 170). Первым выделил четыре поколения теорий Джек Голдстоун (Goldstone, 2011). Из первого поколения революционных теорий наиболее значимыми представителями являются Л. Эдвардс, П. Сорокин, Дж. Петти и К. Бринтон.
Главная работа Дж. Петти в этом поле исследования весьма небольшая и не содержит множества примеров и эмпирических данных о революциях (Pettee, 1938). Одна из ее заслуг – рассмотрение революции как процесса, а не события, что характерно для более современных теорий. А.В. Коротаев и А.И. Жданов называют эту работу одной из наиболее важных в первом поколении (Коротаев, Жданов, 2023: 121). Революции, согласно Дж. Петти, возникают из-за неадекватной организации работы правительства и его неспособности решить «зажимы» в определенных сферах жизни общества на определенном этапе. В ходе революции эти «зажимы» исчезают как на уровне общества, так и на уровне отдельных межличностных отношений (Pettee, 1938: 62).
-
К . Бринтон относится к группе исследователей, рассматривающих революцию как аномалию общественного развития, связанную с потерей веры населения в старый режим, которая, в свою очередь, может происходить в связи с появлением альтернативных политических идеологий, ожиданием улучшения качества жизни и усилением социальных разногласий. Революционный кризис, созданный в таких условиях, решается сменой режима, сопровождающегося насилием даже в тех случаях, когда изначально революционные силы были настроены весьма умеренно. За этим «жаром болезни» следует восстановление государства, и «…пациент снова здоров, и даже в какой-то мере укреплен пережитым опытом…» (Brinton, 1938: 121).
К первому поколению также относят исследователя Льюиса Эдвардса и его главную работу «Естественная история революции» (Edwards, 1970). Этот автор назывался малоизвестным и редко упоминаемым в России (Грязнова, Подвойский, 2005: 74). В работе Л. Эдвардса в исторической ретроспективе представлен анализ английской, американской, французской и русской революций, т. е. охватывается период XVII‒XX вв. Эдвардс определяет революцию как специфическое изменение общества, включающее разрушение тех институтов, которые препятствуют удовлетворению базовых, по его мнению, человеческих потребностей: опыта, развития, безопасности, обратной связи (чувств).
У П. Сорокина в российский период творчества основной работой, в которой была изложена концепция революционных событий, считается монография «Социология революции». На протяжении всего этого периода автор придерживался одной точки зрения на политические кризисы, последовательно излагая ее в монографиях, статьях и публицистических работах: причины политических кризисов усматривались им в подавлении человеческих рефлексов и в неудовлетворительной работе государственного аппарата, который не контролирует ситуацию и проявляет себя как несостоятельный (Мамедов, 2024: 71). Наиболее заметным в качестве фактора революционных событий и подробно проанализированным П. Сорокиным «рефлексом» является рефлекс питания, которому отдельно была посвящена монография «Голод как фактор». На групповом и институциональном уровне голод вызывает восстания, революции, миграции, в т. ч. насильственные, он побуждает государства развязывать войны в попытке накормить свое население или защититься от голодающих соседей (Мамедов, 2024: 70).
Четырехтомный труд «Социальная и культурная динамика» обозначил новую методологию, которая применялась П. Сорокиным до конца его жизни. Книга получила широкую известность и неоднозначные отзывы. Профессор политологии Джон Арчибальд Фэйрли к достоинствам книги отнес обилие статистического материала и особенно рекомендовал третий том для коллег и студентов (Fairlie, 1938). Третья книга издания посвящена флуктуациям социальных отношений, войнам и революциям (Sorokin, 1937). Последним отводятся вторая и третья части книги, каждая из которых включает три главы (9‒14).
В ходе работы автором были привлечены данные по 2 596 конфликтам: внутренним (беспорядки, революции – 1 629) и межгрупповым (войны – 967).
К числу основных выводов работы относятся следующие:
-
– П. Сорокин заявляет о «нормальности» войн в истории человечества и о том, что они редко способствовали культурному регрессу, но их вклад в прогресс культуры не стоит переоценивать;
-
– фактором любой войны Сорокин называет те причины, которые провоцируют «нарушение существующего межгосударственного равновесия» (Сорокин, 2006: 719);
-
– динамика социокультурных циклов, по его мнению, выявляет корреляцию, согласно которой, войны идеационального периода становятся чаще религиозными, а войны чувственного периода тяготеют к экономическому и утилитарному характеру;
-
– периоды чувственной или идеациональной суперсистемы трудно разграничить по уровню «воинственности»; переходные этапы, по-видимому, отличаются существенным повышением частоты и значительности военных конфликтов;
-
– согласно полученным автором данным, не существует серьезных различий в уровне революционности среди исследованных стран;
-
– между интенсивностью войн и внутренних конфликтов не была установлена четкая корреляция;
-
– «… и в периоды процветания, и в периоды упадка количество волнений иногда увеличивалось, а иногда уменьшалось» (Сорокин, 2006: 756);
-
– на рубеже культурных суперсистем, в переходные периоды, внутренние конфликты множились: «в течение тех периодов, когда существующая культура, или система социальных отношений, или они обе переживают решительное преобразование, внутренние беспорядки в соответствующих обществах возрастают» (Сорокин, 2006: 760‒761).
Теория социальной и культурной динамики не получила широкого распространения. В международных политических журналах концепции П. Сорокина упоминаются редко. Мы проанализировали литературу, в которой авторами использованы ссылки на «Социальную и культурную динамику» или «Социологию революции». В качестве объекта исследования были выбраны 20 политологических журналов с самым высоким индексом цитирования за последние 5 лет. Рассмотрены выпуски за 1990‒2024 гг.
Всего было обнаружено 6 ссылок на «Социальную и культурную динамику» или «Социологию революции»:
-
1. В журнале «American Political Science Review» использовались статистические данные из «Социальной и культурной динамики» в статье о балансе в системах международных отношений (Hopf, 1991). В исследовании связи между внутренними и международными политическими кризисами «Социальная и культурная динамика» упоминается в качестве одного из ранних научных трудов, сфокусированных на поиске каузальной связи между анализируемыми в статье явлениями (de Mesquita, 1992).
-
2. В журнале «Comparative Political Studies» применялись статистические данные из «Социальной и культурной динамики» в статье о связи между преемственностью власти и гражданскими конфликтами (Kokkonen, Sundell, 2019).
-
3. В журнале «Annual Review of Political Science» обнаружена одна ссылка на «Социологию революции» в работе о наиболее стабильных режимах в постреволюционный период (Stinchcombe, 1999). «Социология революции» отмечена автором как одна из работ, в которой лучшим образом описан стремительный процесс социальной мобильности во время революционных событий.
-
4. В журнале «European Journal of Political Research» в работе о контент-анализе политических документов с целью рассмотрения долгосрочной динамики политических ценностей в международной среде П. Сорокин назван пионером в применении количественного метода (Eisner, 1990). В другой работе для одной из гипотез используется концепция П. Сорокина, связанная с негативными последствиями мобильности в любую сторону (McNeil, Haberstroh, 2023).
-
5. В журнале «Political Analysis» автор статьи о количественном анализе в политических коммуникациях сообщает в выводах о цикличности в групповой и индивидуальной динамике политических коммуникаций и ссылается на «Социальную и культурную динамику», которая помогает понять феномен циклического поведения человека и ее связь с внешними и темпоральными факторами (Almquist, Butts, 2013).
-
6. В журнале «Political Studies» в статье об исследованиях войны и мира П. Сорокин называется одним из пионеров в количественных исследованиях, а собранные им данные ‒ до сих пор актуальными (Rogers, Ramsbotham, 1999).
Однако существуют примеры продуктивного применения теории. В 2017 г. международная группа исследователей, в которую вошли Д. Узланер и К. Штёкль, предприняла попытку использования теории социальной и культурной динамики сначала в статье (Uzlaner, Stoeckl, 2017), а затем и в монографии для объяснения современных политических процессов (Stoeckl, Uzlaner, 2022).
Роль культуры в революционных событиях особенно подчеркивается в работах отечественных исследователей В.В. Бурматова и О.Н. Глазунова (2011) и более раннем труде Ч.Ф. Эндрейна (Andrain, 1994), в котором культурный фактор представляется как ключевой в политических кризисах. В книге О.Н. Глазунова проводится анализ технологии проведения революций, в основном, с привлечением источников и материалов XX в. Вторая часть работы посвящена так называемым революциям нового поколения ‒ культурным революциям. Автором провозглашается тезис о том, что кризис культуры равносилен кризису власти. Отдельно рассматриваются способы изменения ценностных характеристик общества в различных его системах (в таких институтах, как религия, семья, образование и некоторых других) с целью дестабилизации государства.
Нам представляется уместным использование теории революции для анализа политических кризисов, происходящих в условиях низкого уровня жизни населения. Таким примером может послужить политический кризис Румынии 1989 г., проанализированный с помощью методологического аппарата П. Сорокина.
К 1989 г. население страны находилось по следующим основаниям в состоянии угнетенных рефлексов:
-
1. Ущемление рефлекса питания: в связи с проводимой в течение нескольких лет политикой жесткой экономии в Румынии граждане были весьма ограничены в питании. Многие базовые продукты предоставлялись по карточкам: к примеру, ограничивалось потребление хлеба, масла, сахара и мяса. В 1985 г. была опубликована «научная диета», согласно которой на одного человека в день было положено не более 150 граммов мяса в день, три грамма или половина чайной ложки маргарина (сливочное масло было очень трудно найти), пять с половиной чайных ложек растительного масла, две чашки муки, одна картофелина среднего размера, маленький кусочек фрукта и раз в три дня – яйцо (Ghita, 2018: 147‒148).
-
2. Политика жесткой экономии обуславливала угнетение других рефлексов – например, рефлекса собственности. К 1989 г. страна с окончания Второй мировой войны в 1945 г. пережила несколько периодов, каждый из которых негативно влиял на благосостояние населения. По итогу к 1989 г. страна оказалась в числе беднейших стран Европы по целому ряду показателей (Stanciu, Mihăilescu, 2018).
-
3. Противоречивую с точки зрения прав человека деятельность секретной службы «Секу-ритате» в Румынии можно считать одним из факторов ущемления «инстинкта индивидуального самосохранения», который стоит вторым в ряду факторов революции в «Социологии революции». Эта же служба была ответственна за ущемление «инстинктов свободы», набрав в штат до полумиллиона информаторов, в т. ч. путем шантажа и других насильственных действий.
Сконцентрированная в руках Н. Чаушеску власть также не позволяла оперативно реагировать на возникающие проблемы. Как об этом пишут Е.Г. Пономарёва и А.Г. Самсонов, «институты, зависимые от воли одного, оказываются очень уязвимыми в условиях новых вызовов, которые были вызваны трендом слома мировой системы социализма» (Пономарева, Самсонов, 2020: 70).
Концепции П. Сорокина в качестве инструмента анализа также могут быть применены для рассмотрения такого заметного явления XXI в., как «арабская весна».
В работе А.А. Харламова сделан вывод о том, что «глобальный экономический кризис привел к ухудшению экономического положения в странах Ближнего Востока, спровоцировав рост цен на продовольствие, что стало одним из ключевых факторов роста недовольства»1. Таким образом, в контексте более широкого мирового кризиса были спровоцированы радикальные политические изменения в отдельном регионе.
Наиболее заметна связь между ухудшением продовольственного обеспечения (усугубляемого стремительным ростом населения) и протестной активностью в Египте.
Продовольственное обеспечение в стране было и остается важным фокусом в системе приоритетов национальной безопасности. Страна, «в избытке ориентированная на мучные продукты» (Исаев, Филоник, 2021: 83), в 2010 г. оказалась в ситуации двукратного роста цен на пшеницу. В 2011 г. это ценовое давление продолжилось в связи с 40-процентным повышением мировых цен на пшеницу по сравнению с 2010 г.2
Как уже было отмечено, параллельный рост населения в таких условиях создает дополнительные сложности, что на официальном уровне было отмечено президентом Абдул-Фаттах асСиси. «По его словам, увеличение населения – это не просто проблема, а вопрос национальной безопасности» (Жане, Турк, 2023: 50).
Таким образом, наблюдается «ущемление рефлексов» по Сорокину, в первую очередь рефлекса питания.
Однако и в других странах обнаруживаются факты «ущемления рефлексов»:
-
1. Указываемый А.А. Харламовым в качестве одного из критических факторов элитного раскола проект перераспределения нефтяных доходов в Ливии3 можно трактовать в качестве элемента «ущемления рефлекса» собственности, который без этой системы, однако, фактически ограничивал значительную часть населения Ливии.
-
2. Существовавшая система распределения ответственных должностей по этнорелигиозному принципу в Сирии и племенному ‒ в Ливии создавала условия для формирования недовольства среди ограниченных групп. В Ливии отдельно выделяется восточная Ливия, или Киренаика, как «наиболее проблемный регион» в связи с тем, что «племена Киренаики… были маргинализированы с политической и экономической точки зрения» (Абидулин, Дронов, 2024: 103). В Сирии такими ущемленными, но при этом составляющими больше половины населения страны, являлись сунниты.
-
3. Общемировые тренды на увеличение стоимости продовольствия в Сирии дополнительно усугублялись локальными проблемами с рациональным использованием земель, что не могло не повлиять на мобилизационную базу протестующих.
В каждой из рассмотренных стран можно обнаружить признаки «ущемления» тех или иных рефлексов.
Еще один фактор революционных событий, выделяемый П. Сорокиным, ‒ это некомпетентность действующего режима. На создание и дальнейшее развитие ситуации 2011 г. в каждой из стран оказали влияние в т. ч. определенные ошибки власти. В основном в качестве негативно повлиявшего на ситуацию элемента рассматривается отсутствие или недостаточность мер по либерализации политического режима ‒ к примеру, отсутствие четко определяющей сферу ответственности различных политических институтов конституции в Ливии, попытка передачи власти по наследству там же или запоздалость проводимых реформ в Сирии, обнаруженные факты фальсификации на выборах в Египте в 2010 г. Дополнительно могут рассматриваться элементы, вызвавшие «фискальный кризис», в т. ч. высокий уровень милитаризации и неудачные попытки по ограничению влияния и контингента армии.
Революции 2011 г. имеют определенные географические рамки – конкретное государство, что отражается в сути феномена (определенные страны или «арабский мир»). Однако исследователями они ставятся в более широкий контекст глобального экономического кризиса 2008 г. и его отголосков в 2011 г. в виде агфляции. С точки зрения теории социальной и культурной динамики эти внутренние политические кризисы в регионе являются симптоматичным выражением мирового кризиса социокультурной эпохи. Со сменой эпохи количество и интенсивность кризисов должны уменьшиться.
Таким образом, устанавливается, что к определению как «политических кризисов», так и «революций» существует большое количество подходов. В анализе революционных событий сменилось несколько поколений, но более ранние выводы и концепции представляют определенный интерес и сегодня. На наш взгляд, предложенные П. Сорокиным концепции по-прежнему актуальны. И хотя в более современных работах учитываются дополнительные важные факторы, к примеру, международное влияние, предложенная автором объяснительная модель вполне логично указывает на предпосылки политических кризисов и предлагает удобные инструменты для анализа.