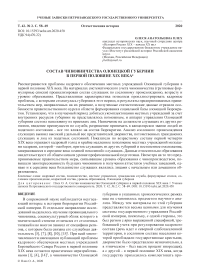Состав чиновничества Олонецкой губернии в первой половине XIX века
Автор: Плех Олеся Анатольевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Отечественная история
Статья в выпуске: 2 т.42, 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются проблемы кадрового обеспечения местных учреждений Олонецкой губернии в первой половине XIX века. На материалах систематического учета чиновничества (групповые формулярные списки) проанализирован состав служащих по сословному происхождению, возрасту и уровню образования. Представленная характеристика позволила проиллюстрировать кадровые проблемы, с которыми столкнулась губерния в этот период, и результаты предпринимаемых правительством мер, направленных на их решение, а полученные статистические данные отразили особенности правительственного курса в области формирования социальной базы олонецкой бюрократии. Установлено, что в изучаемый период добиться укомплектования местных учреждений за счет внутренних ресурсов губернии не представлялось возможным, и аппарат управления Олонецкой губернии состоял наполовину из приезжих лиц. Назначение на должности служащих из других регионов, введение преимуществ по службе, разрешение принимать в канцелярское звание людей из податного состояния - все это влияло на состав бюрократии. Анализ сословного происхождения служащих выявил высокий удельный вес представителей дворянства, потомственных гражданских служащих и лиц из податных состояний. Показатели по возрастному составу первой четверти XIX века отражают кадровый голод и крайне медленное пополнение местных учреждений молодыми кадрами, а второй - наоборот, приток служащих из других губерний и постепенное омоложение, завершившееся в середине века «сменой поколений» служащих. Данные относительно образования свидетельствуют об общем низком уровне профессиональной подготовки. Несмотря на то что предпринимаемые правительством меры, связывавшие уровень образования с чинопроизводством, повышали заинтересованность будущих чиновников в получении аттестатов учебных заведений, однако и к середине века большинство служащих являлись лицами с начальным или домашним образованием.
Кадровый состав, чиновничество, местное управление, гражданская служба, формулярные списки, сословное происхождение, возрастной состав, уровень образования, олонецкая губерния
Короткий адрес: https://sciup.org/147226574
IDR: 147226574 | УДК: 94(470.22) | DOI: 10.15393/uchz.art.2020.450
Текст научной статьи Состав чиновничества Олонецкой губернии в первой половине XIX века
В современной науке наблюдается неугасающий интерес к истории бюрократии Российской империи. В отдельное направление исследований выделилось изучение провинциального чиновника, социокультурный облик которого в значительной степени отличался от столичных типажей и во многом зависел от специфики региона, с которым была связана его служебная деятельность [5], [7], [8], [10], [15]1. При всей многочисленности имеющихся публикаций проблемы кадрового обеспечения местных учреждений Европейского Севера России в первой половине XIX века остаются практически неразработанными [1], [4], [14]2, а чиновничество Олонецкой
губернии в указанных хронологических рамках еще не становилось предметом научного анализа. Между тем материалы по этой губернии представляются весьма ценными для изучения системы государственного управления Российской империи, поскольку, с одной стороны, это был регион с ярко выраженной спецификой, требовавшей учета при регулировании кадрового состава (речь идет о северной слабозаселенной территории, в сословном составе населения которой преобладали государственные крестьяне, дворянство было представлено незначительно, а в этническом – был высок процент инородцев), а с другой – в первой половине XIX века, когда государству приходилось комплектовать про- винциальный аппарат управления в условиях дефицита квалифицированных кадров, местные учреждения Олонецкой губернии функционировали в условиях острого недостатка чиновников и, особенно, канцелярских служителей, и речь идет не о нехватке профессиональных управленцев, а о фактическом отсутствии желающих нести службу в суровом северном крае.
Итак, в центре внимания настоящей статьи – служащие Олонецкой губернии первой половины XIX века: их состав по сословному происхождению, возрасту и уровню образования. Документальная основа исследования – материалы систематического учета чиновничества: групповые формулярные списки, сохранившиеся в фонде 1349 Российского государственного исторического архива (далее – РГИА)3. Историки, занимающиеся разработкой проблем кадрового обеспечения, активно обращаются к этим источникам, однако представленные в данной статье материалы по составу олонецких чиновников еще не вводились в научный оборот.
***
В ходе настоящего исследования проанализированы материалы групповых формулярных списков за 1803, 1826, 1844 и 1850 годы4. Выбор хронологических срезов обусловлен следующим. Документы, датированные 1803 годом, – это самый ранний групповой формулярный список, сформированный по результатам укомплектования местных учреждений на момент восстановления губернии5. Он включает не только чиновников, но и канцелярских служителей, что для данного источника является большой редкостью. По документам за 1826 год можно судить о результатах кадровой политики правительства Александра I, а за 1850-й – Николая I, однако и тот и другой списки содержат информацию только о чиновниках. В связи с этим еще проана- лизированы списки за 1844 год, которые, так же как и материалы 1803 года, включают полный состав служащих (и чиновников, и нечиновников). Информация из указанных источников была систематизирована в электронной базе данных, что позволило получить статистические показатели по составу служащих6.
В табл. 1 представлено сословное происхождение служащих Олонецкой губернии. Полученные показатели весьма любопытны. Их объяснение требует учета многих факторов, определявших социальную базу комплектования олонецкой бюрократии. Напомним, что для верховной власти предпочтительным источником пополнения кадров провинциального аппарата управления являлись дворянство и потомственные служащие («обер-офицерские» дети и дети канцелярских служителей). Если эти сословные группы среди населения губернии были малочисленны и не обеспечивали требуемого притока кадров, то государство направляло на канцелярскую службу «излишних» детей священно- и церковнослужителей, для которых обучение грамоте являлось обязательным. Однако в изучаемой губернии состав населения был таков, что за счет внутренних ресурсов добиться желаемого кадрового обеспечения не представлялось возможным: в 1780-е годы из 230 тыс. человек, населявших губернию, потомственных дворян насчитывалось 238, или 0,1 %, разночинцев – 1739 (0,8 %), духовенства – 449 (0,2 %)7; в 1850-е годы из 287 тыс. человек – 1204 (0,4 %), 6108 (2,1 %), 4083 (1,4 %) со-ответственно8. Иными словами, показатели по сословному происхождению служащих связаны не только с составом населения. Немаловажную роль играло то, что в олонецких учреждениях была высока доля приезжих: удельный вес уроженцев губернии в 1803 году составлял 56,0 %, в 1826 – 44,8 %, в 1844 – 51,0 %, в 1850 – 41,8 %.
Таблица 1. Сословное происхождение служащих Олонецкой губернии
Table 1. Estate origins of civil servants in Olonetsk province
|
Год |
Дворянство |
Дети «обер-офицеров» |
Духовенство |
Дети приказных служителей |
Прочие |
Всего |
||||||
|
чел. |
% |
чел. |
% |
чел. |
% |
чел. |
% |
чел. |
% |
чел. |
% |
|
|
1803 |
66 |
24,8 |
53 |
19,9 |
40 |
15,0 |
39 |
14,7 |
68 |
25,6 |
266 |
100 |
|
1826 |
29 |
27,6 |
37 |
35,2 |
12 |
11,4 |
5 |
4,8 |
22 |
21,0 |
105 |
100 |
|
1844 |
141 |
29,9 |
163 |
34,6 |
42 |
8,9 |
28 |
6,0 |
97 |
20,6 |
471 |
100 |
|
1850 |
152 |
37,3 |
136 |
33,4 |
39 |
9,6 |
10 |
2,5 |
70 |
17,2 |
407 |
100 |
Примечание. В таблице выделено 5 групп: 1) потомственные дворяне; 2) дети личных дворян (дети «обер-офицеров»); 3) дети канцелярских, или приказных, служителей; 4) духовенство (дети священно- и церковнослужителей); 5) прочие социальные группы, представители которых на гражданской службе были малочисленны (выходцы из купечества, мещанства, крестьянства, иностранцы, дети унтер-офицеров и солдат, дети низших служителей гражданского, военного, почтового, горнозаводского и духовного ведомств, дети из воспитательных учреждений и др.).
Составлено по: РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. 1803. Д. 54. Л. 1 об.–175; 1826. Д. 133. Л. 1 об.–314; 1844. Д. 514. Ч. 1. Л. 1 об.–644; Ч. 2. Л. 1 об.– 450; Оп. 5. Д. 78. Л. 1 об.–24; Д. 6644. Л. 1 об.–70; Д. 6972. Л. 1 об.–690; Д. 7589. Л. 1 об.–532; Д. 7951. Л. 1 об.–305.
Итак, представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о следующем. Во-первых, на протяжении всего изучаемого периода довольно высоким был удельный вес потомственных дворян: в начале века он равнялся 24,8 %, а к середине достиг 37,3 %9. Как уже стало понятно, эту динамику не следует связывать с численностью «благородного» сословия в Олонецкой губернии, которая и в абсолютном, и в относительном измерении была более чем скромной. Отметим, что несмотря на это в первое десятилетие XIX века в губернии даже проводились дворянские выборы (до 1811 года10), но на представительство сословия в составе служащих этот фактор значительного влияния не оказывал. Так, в 1803 году по результатам выборов были заполнены 30 должностей, но из них только 19 детьми потомственных дворян, а остальные выходцами из других сословий, приобретшими потомственные права на государственной службе. Во-вторых, удельный вес потомственных гражданских служащих (то есть детей чиновников, или «обер-офицерских детей», и детей приказных служителей) варьировался от 34,6 до 40,6 %, что также следует рассматривать как высокие показатели11. Подчеркнем, что на материалах Олонецкой губернии прослеживается общая для состава местной бюрократии тенденция, обусловленная изменениями в системе чинопроизводства: постепенное увеличение доли «обер-офицерских детей» (с 19,9 до 33,4 %) и уменьшение детей приказных служителей (с 14,7 до 2,5 %). В-третьих, представительство духовенства в составе олонецких служащих выглядит небольшим (по сравнению с другими губерниями, как северными, так и центральными12) и на протяжении первой половины XIX века сокращается с 15,0 до 9,6 %. В-четвертых, внушительными представляются показатели в графе «прочие» табл. 1 (с 17,2 до 25,6 %), куда отнесены в большинстве своем лица из податных состояний, а также такая характерная для горнозаводского района категория населения, как дети мастеровых и заводских рабочих, как положенных, так и неположенных в подушный оклад (в 1803 году их доля в общем составе служащих достигала 7,5 %, в 1826 – 1,9 %, в 1844 – 3,2 %, в 1850 году – 2,2 %).
При характеристике полученных данных и наблюдаемой динамики следует, конечно, учитывать предпринимаемые правительством меры, направленные на устранение кадрового голода, который испытывали местные учреждения Олонецкой губернии. На протяжении всего изучаемого периода государство направляло сюда чиновников из центральных учреждений и других губерний, в том числе и специалистов – врачей, землемеров и архитекторов (нехватка этих служащих, в особенности врачей, ощущалась повсеместно; лишь к 1840-м годам удалось наладить их профессиональную подготовку, позволявшую закрывать вакансии даже в отдаленных губерни-ях13). С 1816 года должности полицмейстеров и городничих замещались «отставными за ранами» офицерами по определению Александровского комитета о раненых14. Среди них, с одной стороны, были потомственные дворяне, а с другой – представители разных сословий, в том числе податных (крестьян, мещан, солдат, иностранцев), кому удалось на военном поприще выслужить классные чины. Кроме того, на определенные должности (квартальные надзиратели, тюремные смотрители, реже – канцелярские служащие) назначались вышедшие в отставку по выслуге лет военные нижние чины (в основном рекруты из крестьян и мещан). Довольно специфичной выглядела практика определения к должностям лиц, сосланных в губернию под надзор полиции: одних «за праздную и нетрезвую жизнь»15, других – по прикосновенности к политическим делам, в том числе поляков16. Конечно, далеко не всем удавалось добиться такой привилегии, находясь в ссылке. Во многом это становилось возможным благодаря покровительству губернаторов. Всего в 1844 году таковых насчитывалось 6 человек (все дворяне)17, в 1850 – 5 (3 дворянина, 1 сын протоиерея и 1 сын подьячего)18.
Проблема заполнения канцелярских мест, почти повсеместно проявившаяся еще в ходе губернской реформы 1775 года, вынуждала государство допускать на службу выходцев из податных сословий [11: 103-105]. Не была исключением и Олонецкая губерния, где эта проблема ощущалась особенно остро. Как убедительно доказывает Л. Ф. Писарькова, в первой четверти XIX века правительство хотя и предпринимало попытки ограничить доступ на гражданскую службу представителям податных сословий, однако вынуждено было допускать исключения из общих правил [11: 139-149], а в 1826 году олонецким учреждениям официально разрешили «принимать в канцелярское звание людей податного состояния»19.
С 1838 года на канцелярские должности в Олонецкую губернию стали направлять воспитанников из особо учрежденных при Ярославском и Полтавском приказах общественного призрения отделений для подготовки писцов (лица, выпущенные в звании младших писцов, обязаны были прослужить не менее 10 лет, старших – 8), а в 1840-е годы - еще и Александровского воспитательного заведения для бедных дворян Рязанской губернии20. По групповым формулярным спискам за 1844 год насчитывалось 34 воспитанника, за 1850-й – 23. С точностью определить сословную принадлежность многих из этих лиц невозможно, поскольку в большинстве случаев в графе формулярного списка «из какого звания происходит» указывалось – «из воспитанников»21 (в табл. 1 такие служащие отнесены в графу «прочие»). Известно, что в отделения для подготовки писцов принимались «неимущие сироты всех состояний, кроме помещичьих крестьян»22.
Особую роль в привлечении кадров сыграли указы, устанавливавшие льготы для лиц, желавших отправиться на службу в Олонецкую губернию [12: 131–142]. Для верховной власти это были вынужденные меры, и первоначально они рассматривались исключительно как временные. Так, 31 октября 1828 года было издано особое постановление «О мерах к отвращению недостатка в Олонецкой губернии чиновников и канцелярских служителей»23, а указом от 30 марта 1832 года подтверждены и расширены нормы о поощрении служащих24. В 1835 году изучаемая губерния лишилась привилегий25, но уже через несколько лет государство было вынуждено признать необходимость введения служебных преимуществ на постоянной основе, что нашло закрепление сначала в указе от 29 апреля 1839 года26, а затем – от 9 июня 1842 года27.
Принятие этих законов привело к ощутимому притоку служащих, изменившему не только численность, но и состав олонецкой бюрократии. Выявленные в ходе настоящего исследования групповые формулярные списки позволяют представить некоторые данные относительно служащих, воспользовавшихся льготами. Так, по групповым формулярным спискам за 1844 год на службе состояло не менее 104 человек (то есть 22,1 % от всех учтенных лиц), которые воспользовались льготами в соответствии с обозначенными указами, – из них 40 являлись потомственными дворянами (38,5 %), 35 «обер-офицерскими» детьми (33,6 %), 11 выходцами из духовенства (10,6 %), 8 детьми канцелярских служителей (7,7 %), 10 относились к прочим социальным группам (9,6 %)28. В групповых формулярных списках за 1850 год численность таких лиц составляла уже 127 человек (или 31,2 %): 67 потомственных дворян (52,8 %), 36 «обер-офицерских» детей (28,3 %), 13 представителей духовенства (10,2 %), 2 детей приказных служителей (1,6 %) и 9 выходцев из прочих категорий населения (7,1 %)29.
Отметим также, что в 1840-е годы денежные пособия и преимущества по службе полагались и лицам, направляемым от Александровского комитета о раненых30, и специалистам31, определяемым в губернию по назначению правительства (что увеличило число желающих отправиться в «отдаленные края» среди этих категорий служащих).
В табл. 2 и 3 представлен возрастной состав служащих Олонецкой губернии. Как уже упоминалось, канцелярские служители включены только в групповые формулярные списки за 1803 и 1844 годы. Поэтому, чтобы избежать искажения показателей и привести сопоставимые данные, эти категории служащих разделены: в табл. 2 помещены сведения по чиновникам, в табл. 3 – по канцелярским служителям.
Из табл. 2 следует, что в начале XIX века 26,8 % чиновников были в возрасте от 21 до 30 лет, 39,5 % – от 31 до 40, 16,5 % – от 41 до 50, средний возраст равнялся 38 годам; в 1826 году эти показатели составили 25,0 %, 27,9 %, 20,2 % и 42 года соответственно32. Во многих губерниях в начале XIX века основная масса чиновников являлась лицами, поступившими на службу во время открытия присутственных мест в ходе губернской реформы 1775 года; на протяжении первой четверти XIX века происходило постепенное омоложение состава и к 1826 году произошла «смена поколений», когда абсолютное большинство относилось уже к лицам не старше 40 лет33. В Олонецкой губернии эти процессы не были ярко выраженными, скорее, наблюдалась иная тенденция, что следует связывать с кадровыми проблемами и нехваткой служащих. Во второй четверти XIX века, когда правительству удалось добиться стабильного притока чиновников из других регионов, динамика возрастного состава олонецких чиновников выровнялась: в 1844 году 24,3 % чиновников были в возрасте от 21 до 30 лет, 33,1 % – от 31 до 40, 25,3 % – от 41 до 50, средний возраст равнялся 39 годам; в 1850 году эти показатели составили – 44,8 %, 23,9 %, 20,4 % и 35 лет соответственно. Отметим, что к середине века происходило омоложение состава чиновничества. И это связано не только с пополнением местного аппарата управления молодыми людьми. Для многих губерний это была общая тенденция: в начале 1850-х годов наблюдалась вторая волна «смены поколений» служащих34.
В литературе неоднократно подчеркивалось, что канцелярские служители – это в основном либо молодые люди, либо те, кто не так давно поступил на службу и еще не успел выслужить первый чин [2: 602–603], [11: 202]. Что, конечно, неоспоримо, поскольку в первой половине
XIX века система чинопроизводства эволюционировала в направлении регулярного повышения в чинах в соответствии с определенной выслугой лет, соответственно, получение первого чина и вместе с ним переход в разряд чиновничества для служащего становились делом времени. Однако послужные списки канцелярских служителей среди архивных материалов встречаются нечасто, а документы, предоставляющие возможность оценить состав этой категории служащих по основной массе учреждений, вообще большая редкость.
Таблица 2. Возрастной состав чиновников Олонецкой губернии
Table 2. Age structure of officials in Olonetsk province
|
Возрастная категория |
1803 год |
1826 год |
1844 год |
1850 год |
||||
|
чел. |
% |
чел. |
% |
чел. |
% |
чел. |
% |
|
|
До 20 лет |
2 |
1,3 |
0 |
0,0 |
3 |
1,1 |
1 |
0,3 |
|
21–30 лет |
42 |
26,8 |
26 |
25,0 |
66 |
24,3 |
178 |
44,8 |
|
31–40 лет |
62 |
39,5 |
29 |
27,9 |
90 |
33,1 |
95 |
23,9 |
|
41–50 лет |
26 |
16,5 |
21 |
20,2 |
69 |
25,3 |
81 |
20,4 |
|
51–60 лет |
17 |
10,8 |
15 |
14,4 |
32 |
11,8 |
30 |
7,6 |
|
Старше 60 лет |
8 |
5,1 |
13 |
12,5 |
12 |
4,4 |
12 |
3,0 |
|
Всего |
157 |
100,0 |
104 |
100,0 |
272 |
100,0 |
397 |
100,0 |
Составлено по: РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. 1803. Д. 54. Л. 1 об.–175; 1826. Д. 133. Л. 1 об.–314; 1844. Д. 514. Ч. 1. Л. 1 об.–644; Ч. 2. Л. 1 об.–450; Оп. 5. Д. 78. Л. 1 об.–24; Д. 6644. Л. 1 об.–70; Д. 6972. Л. 1 об.–690; Д. 7589. Л. 1 об.–532; Д. 7951. Л. 1 об.–305.
Таблица 3. Возрастной состав канцелярских служителей Олонецкой губернии
Table 3. Age structure of office clerks in Olonetsk province
|
Возрастная категория |
1803 год |
1844 год |
||
|
чел. |
% |
чел. |
% |
|
|
До 15 лет |
43 |
41,3 |
0 |
0,0 |
|
16–20 лет |
26 |
25,0 |
45 |
23,1 |
|
21–30 лет |
25 |
24,1 |
139 |
71,3 |
|
Старше 30 лет |
10 |
9,6 |
11 |
5,6 |
|
Всего |
104 |
100,0 |
195 |
100,0 |
Составлено по: РГИА. Ф. 1349. Оп. 4. 1803. Д. 54. Л. 1 об.–175;
1844. Д. 514. Ч. 1. Л. 1 об.–644; Ч. 2. Л. 1 об.–450.
Данные, представленные в табл. 3, позволяют не только увидеть возрастной состав, но и сравнить показатели за 1803 и 1844 годы. Так, в 1803 году наблюдается высокий удельный вес лиц, не достигших 16-летнего возраста (41,3 %), а в 1844 году таковых вовсе не имелось. Это в первую очередь связано с тем, что в первой четверти XIX века на службе не существовало возрастных ограничений. Только в 1827 году появился указ, гласивший: «.. .не достигший четырнадцатилетнего возраста не может быть причислен ни к одному гражданскому ведомству»35, а действительная служба стала исчисляться с 16 лет. В связи с этим если в 1803 году среди олонецких служащих наиболее молодые были в возрасте 9–10 лет, то в 1844 году – 16 лет. Однако, как свидетельствуют послужные списки, многие служащие и в середине века начинали карьерный путь с 14 лет, но в материалы учета включались сведения только о лицах, состоявших на действительной службе. Отметим также, что в 1844 году велика доля лиц в возрасте от 21 до 30 лет (71,3 %). Это связано с принятием указа от 25 июня 1834 года36, установившего прямую зависимость скорости приобретения чинов от уровня образования (лица, поступавшие на службу с аттестатами средних и высших учебных заведений, как правило, были старше 20 лет).
Следует обратить внимание и на «великовозрастных» канцелярских служителей. В 1803 году четверо были старше 40 лет, причем самый зрелый был в возрасте 63 лет37. Они не были судимы, на государственную службу поступили еще в XVIII веке (и к 1803 году уже обладали значительным опытом), имели положительные аттестации («к продолжению службы способен и к повышению чина достоин»). Установить причины их длительного пребывания в канцелярском звании, основываясь только на послужных списках, не представляется возможным. Сделаем лишь некоторые предположения. Несмотря на то что «выслуга лет стала главным условием движения по чиновной лестнице» еще в 1760 году [11: 110], в последующие десятилетия правила чинопроизводства неоднократно корректировались и дополнялись [11: 111–112] и к началу XIX века еще не оформились в устоявшуюся систему регулярного повышения в чинах. По всей видимости, в этот период помимо выслуги лет приблизить или отдалить момент награждения чином коллежского регистратора могли многие обстоятельства, в том числе занимаемая должность, сословное происхождение, отношение губернского и непосредственного начальства, личные качества служащего и результаты его работы. Не лучшим образом могли сказываться и перемещения канцелярских служителей из одного учреждения в другое. Во второй четверти XIX века ситуация заметно изменилась. После законодательного упорядочения правил чинопроизводства служащие получили возможность претендовать на регулярное повышение в чинах (по выслуге лет) при условии положительной аттестации. В 1844 году трое канцелярских служителей были старше 40 лет, самому возрастному насчитывался 51 год. Причины неполучения первого классного чина в каждом из этих случаев нашли отражение в послужных списках: двое из них являлись ссыль- ными поляками (при высылке были разжалованы и поступили на службу в Олонецкой губернии «нижним канцелярским званием»38), а на карьере третьего отразилось нахождение под судом с продолжительным удалением от должности39.
Изучение уровня образования служащих по групповым формулярным спискам осложнено тем, что в первой половине XIX века внесение таких сведений не являлось обязательным. Конечно, в отдельных случаях эта информация находила отражение (главным образом у лиц, посещавших высшие или средние учебные заведения, и без уточнения, удалось ли выдержать полный курс обучения). Так, в групповом формулярном списке за 1803 год образование указано у 26 лиц (или 9,8 % от общего числа служащих): у 2 высшее военное (Морская академия), у 9 среднее военное (кадетские корпуса), у 1 среднее гражданское (главное народное училище) и у 14 среднее духовное (семинарии). В 1826 году посещение учебных заведений отмечено в послужных списках 17 чиновников (или 16,2 %), из которых двое обучались в Московском университете, 14 получили среднее образование: 7 гражданское (гимназии, Санкт-Петербургское коммерческое училище), 5 военное (кадетские корпуса, штурманское училище), 1 духовное (семинария) и 1 низшее техническое (школа для рабочих при Ладожском канале).
После издания указа от 25 июня 1834 года, связавшего скорость приобретения чинов с уровнем образования40, в послужные списки стали вносить информацию о высшем и среднем образовании. Однако незаконченное среднее и низшее образование, не оказывавшее влияния на приобретение чинов и замещение должностей, упоминались редко. Так, согласно групповым формулярным спискам, в 1844 году треть от всех олонецких служащих (32,7 %) являлись лицами, посещавшими учебные заведения. Высшее образование было указано у 31 служащего: из них 24 приобрели гражданские специальности (в том числе 11 медиков), 4 - технические и 3 - военные. Среднее образование (в том числе и незаконченное) отмечено в послужных списках 61 служащего: 36 проходили обучение в заведениях Министерства народного просвещения, 14 -в семинариях, 4 – в технических училищах, 7 – в кадетских корпусах. Состав выпускников напрямую отражал развитие сети учебных заведений. Среди них были лица, посещавшие Московский и Санкт-Петербургский университеты, Демидовский и Нежинский лицеи, Медико-хирургические академии, Горный и Морской кадетские корпуса, Артиллерийское училище, Училище гражданских инженеров, Константиновский ме- жевой институт и т. п. Также в 1844 году у 62 служащих отмечено посещение низших учебных заведений, среди которых значились и училища, занимавшиеся специальной подготовкой писцов (или низших канцелярских служителей) - училища для детей канцелярских служителей (25 слу-жащих41). В формулярных списках 26 служащих указывалось, что они являлись воспитанниками отделений для приготовления писцов Ярославского и Полтавского приказов общественного призрения. Таким образом, спустя 10 лет после реформирования правил чинопроизводства и введения преимуществ в соответствии с уровнем образования среди служащих Олонецкой губернии удельный вес лиц с высшим образованием составлял 6,6 %, со средним – 12,9 %, с низшим – 13,2 %, с домашним– 67,3 %.
Таблица 4. Образовательный уровень чиновников Олонецкой губернии в 1850 году
Table 4. Educational level of officials in Olonetsk province in 1850
|
Уровень образования |
чел. |
% |
|
Высшее образование (законченное, незаконченное) |
44 |
10,8 |
|
Среднее законченное образование |
43 |
10,6 |
|
Среднее незаконченное образование |
95 |
23,3 |
|
Низшее образование (законченное, незаконченное) |
119 |
29,2 |
|
Домашнее образование |
106 |
26,1 |
|
Всего |
407 |
100,0 |
Составлено по: РГИА. Ф. 1349. Оп. 5. Д. 78. Л. 1 об.–24; Д. 6644. Л. 1 об.–70; Д. 6972. Л. 1 об.–690; Д. 7589. Л. 1 об.–532; Д. 7951. Л. 1 об.–305.
Указом от 16 июля 1849 года была введена новая форма послужного списка, требовавшая внесения информации о том, «где (служащий. – О. П.) получил воспитание и окончил ли в заведении полный курс наук»42. В связи с этим в документах 1850 года содержатся наиболее точные сведения относительно уровня образования. Как видно из табл. 4, высшее образование получили 44 чиновника, из них 33 прошли обучение по гражданским специальностям (в том числе 12 медиков), 8 по техническим и 3 по военным. Законченное среднее образование отмечено у 43 чиновников (19 в заведениях Министерства народного просвещения, 9 – в семинариях, 8 – в технических училищах, 7 - в кадетских корпусах); незаконченное среднее – у 95 (75, 14, 2 и 4 соответственно). В послужных списках 119 чиновников указано посещение низших учебных заведений, в том числе училищ для детей канцелярских служителей (22 служащих), ярославского и полтавского отделений для приготовления писцов (19). Обращает на себя внимание и сословный состав, отражавший правительственную политику, покровительство- вавшую в получении образования детям дворян и чиновников: потомственные дворяне среди лиц с высшим образованием составляли 68,2 %, со средним – 46,5 %, с незаконченным средним – 48,4 %; «обер-офицерские дети» – 9,1, 25,6 и 28,4 %; дети священно- и церковнослужителей – 4,5, 18,6 и 14,8 %; дети приказных служителей – 0,0, 0,0 и 2,1 %; представители прочих социальных групп – 18,2, 9,3 и 6,3 % соответственно.
По сравнению с 1844 годом в послужных списках середины века общее число лиц, указавших посещение учебных заведений, увеличилось в 2 раза, что, конечно, следует связывать не с общим ростом образовательного уровня, а с результатами введения нового формуляра. В таком случае могут ли показатели 1844 и 1850 годов относительно лиц с высшим и средним образованием рассматриваться как сопоставимые? Представляется, что лишь отчасти: с одной стороны, установлено, что с 1834 года такая информация в основном вносилась в послужные списки, но с другой – в материалы учета за 1844 год были включены не только чиновники, но и канцелярские служители, и при этом отсутствовали некоторые учреждения и должности, в частности губернская строительная комиссия и землемеры (в 1840-е годы архитекторы и землемеры, как правило, имели высшее или среднее специальное образование). Кроме того, и среди учреждений, попавших в групповые формулярные списки 1850 года, обнаружены пропущенные должности (которые могли пребывать вакантными либо были заполнены канцелярскими служителями).
В литературе неоднократно подчеркивалось, что во второй четверти XIX века «служебные привилегии» стали «важным средством привлечения молодежи» в учебные заведения, а сокращенные сроки производства в классные чины – стимулом к получению аттестатов43. При этом увеличивалась не только общая численность обучавшихся лиц, но и тех, кому удавалось получить аттестаты о среднем образовании, и тех, кто намеревался продолжить обучение. Материалы по Олонецкой губернии позволили увидеть, что к середине века подавляющее большинство служащих являлись лицами, посещавшими учебные заведения. Конечно, заветные аттестаты имели далеко не все, и выявленные документы отражают то, что четверть служащих с законченным высшим и средним образованием - это были специалисты (медики, землемеры, архитекторы), назначавшиеся на вакантные места в провинцию сразу по окончании обучения. Кроме того, в соответствии с указом от 23 января 1837 года предписывалось
«впредь поступающих вновь на службу молодых людей дворянского происхождения, или имеющих по учебным их аттестатам право на классные чины... не определять прямо в департаменты и канцелярии министерств и отдельных управлений, прежде чем они прослужат, по крайней мере, три года в местах губернских…»44.
Однако большинство служащих поступало на службу либо с домашним воспитанием, либо после уездных училищ или нескольких классов гимназии, что было связано в одних случаях с трудным материальным положением семей, не позволявшим оплачивать обучение, а в других – с неуспеваемостью и отсутствием способностей «к продолжению дальнейших наук». В целом эти тенденции просматриваются и на материалах других губерний, с той лишь разницей, что удельный вес лиц с высшим образованием среди олонецких чиновников был выше, а со средним – ниже [6: 150]. По всей видимости, первое следует связывать с введением льгот для лиц, поступавших на службу в Олонецкой губернии (этими преимуществами воспользовался каждый третий чиновник с высшим образованием), а второе – с малочисленностью обучавшихся и проходивших полный курс обучения в местных учебных заведениях (так, в 1847 году в Олонецкой гимназии насчитывалось 88 учащихся, тогда как в Вологодской – 180, в Архангельской – 101 [9: 717]; в период с 1828 по 1850 год полный курс Олонецкой гимназии прошло всего 74 человека, что составляет не более 3–4 выпускников в год45).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенный анализ позволил увидеть особенности состава олонецкой бюрократии. Они во многом были связаны и с кадровыми проблемами, с которыми столкнулась губерния в первой половине XIX века, и с результатами предпринимаемых правительством мер, направленных на их решение. Невозможность за счет внутренних ресурсов добиться укомплектования местных учреждений вынуждала верховную власть направлять сюда чиновников из центральных учреждений и других губерний, а также ввести преимущества по службе, нацеленные на привлечение кадров. Итоги этой политики проявились в том, что среди служащих уроженцы Олонецкой губернии едва ли составляли большинство. Установлено, что их удельный вес в начале века достигал 56 %, а к середине – сократился до 42 %. Пополнение местных учреждений извне нашло отражение в показателях сословного происхождения служащих: высокий удельный вес представителей потомственного дворянства и потомственных гражданских служащих. Кроме того, крайний недостаток канцелярских служи- телей вынуждал государство «принимать в канцелярское звание людей податного состояния», а также определять к должностям воспитанников из «особо учрежденных» при приказах общественного призрения отделений для подготовки писцов, что заметно повлияло на статистические показатели по тем социальным группам, представители которых на гражданской службе, как правило, были малочисленны. Представленные в настоящей статье данные по возрастному составу также напрямую связаны с решением кадровых вопросов в изучаемой губернии: в первой четверти XIX века, когда проблема нехватки служащих ощущалась особенно остро и местный аппарат крайне медленно пополнялся молодыми кадрами, статистические показатели отличались от того, что наблюдалось в других регионах, но во второй четверти XIX века, когда правительству удалось добиться стабильного притока служащих из дру- гих губерний, динамика возрастного состава олонецких чиновников уже соответствовала общей тенденции - постепенное омоложение, завершившееся в середине века «сменой поколений» служащих. Выявленные в ходе исследования данные относительно образования свидетельствуют об общем низком уровне профессиональной подготовки. Предпринимаемые правительством меры, связывавшие образование с чинопроизводством, конечно, повышали заинтересованность лиц, планировавших поступить на государственную службу, в посещении учебных заведений. Однако и к середине века большинство служащих – это были люди, получившие домашнее воспитание или посещавшие низшие учебные заведения (55,3 %), 23,3 % относились к числу тех, кто имел незаконченное среднее образование, и только 21,4 % могли похвастаться аттестатами средних и высших учебных заведений.
*Публикация подготовлена при поддержке гранта Президента РФ для молодых российских ученых (проект № МК-1194.2018.6).
Список литературы Состав чиновничества Олонецкой губернии в первой половине XIX века
- Бутвило А. И., Ефимова В. В. История государственного управления в Карелии: Учеб. пособие. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. 109 с.
- Дятлов В. А. Особенности социального положения чиновничества Российской империи в первой половине XIX века (на примере Пензенской и Саратовской губерний) // Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. 2012. № 27. С. 601-604.
- Виноградова Т. В. Деятельность комиссии по разбору архивных дел Олонецкого губернского правления в контексте проблем ведомственного хранения документов в первой половине XIX в. // Делопроизводство. 2004. № 1. С. 95-102.
- Ефимова В. В. Генерал-губернаторы Европейского Севера: место и роль в системе органов государственной власти и управления Российской империи (1820-1830 гг.). СПб.: Дмитрий Буланин, 2019. 832 с.
- Иванов В. А. Губернское чиновничество 50-60 гг. XIX в. в России (по материалам Московской и Калужской губерний): Историко-источниковедческие очерки. Калуга: КГПИ, 1994. 229 с.
- Иванов В. А. Образовательный уровень местного российского чиновничества в середине XIX в. (по материалам Московской, Калужской и Тверской губерний) // Преподаватель XXI век. 2009. № 3. Ч. 1. С. 149-156.
- Иванов В. А. Социальный облик местного чиновничества России в середине XIX в. // Федерализм. 2009. № 1 (53). С. 79-92.
- Иванов В. А. Социальный состав местного звена аппарата управления России середины XIX века как отражение политики правительства в области формирования чиновничества // Научные ведомости БелГУ Сер.: История. Политология. Экономика. Информатика. 2009. № 1 (56). Вып. 9. С. 73-79.
- Калинина Е. А. Система народного просвещения на Европейском Севере России в первой половине XIX века. М.: Новый хронограф, 2017. 736 с.
- Мельникова И. Г. Чиновничество губерний Верхнего Поволжья в первой четверти XIX века // Научные ведомости БелГУ Сер.: История. Политология. Экономика. Информатика. 2009. № 7 (62). Вып. 10. С. 136-142.
- Писарькова Л. Ф. Государственное управление России в первой трети XIX в.: становление министерской системы. М.: Новый хронограф, 2019. 416 с.
- Плех О. А. Привлечение кадров на службу в российской провинции в первой половине XIX в. (на материалах Европейского Севера) // История федерализма в России. К 100-летию образования автономной Башкирской республики: Сборник материалов Всерос. науч.-практ. конф., г. Стерлитамак, 2 нояб. 2018 г. / Отв. ред. Н. С. Мысляева. Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2018. С. 131-142.
- Плех О. А. Численность служащих Олонецкой губернии в первой половине XIX в. // Альманах североевропейских и балтийских исследований. Вып. 4. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2019. С. 218-230.
- Савицкий И. В. "Свои" и "чужие" среди чиновничества Олонецкой губернии XIX века // "Свое" и "чужое" в культуре: Материалы X Междунар. науч. конф. (г. Петрозаводск, 16-17 марта 2015 г.). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2015. С. 190-192.
- Токмакова Ю. Н., Авилова Н. Л. Социальный состав, возраст и религиозная принадлежность чиновников Курской губернии в 1801-1861 гг. // Известия Юго-Западного государственного универ -ситета. 2011. № 4 (37). С. 179-185.