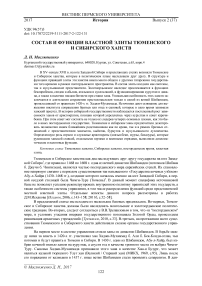Состав и функции властной элиты Тюменского и Сибирского ханств
Автор: Маслюженко Д.Н.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История Азии
Статья в выпуске: 2 (37), 2017 года.
Бесплатный доступ
В XV-начале XVII в. на юге Западной Сибири и прилегающих степях возникли Тюменское и Сибирское ханства, которые в политическом плане наследовали друг другу. В структуре и функциях правящей элиты эти ханства имела много общего с другими татарскими государствами того времени в рамках постордынского пространства. В состав элиты входили как светские, так и мусульманские представители. Золотоордынское наследие прослеживается в функциях беклярибеков, сеидов и абызов, аталыков и кукельташей, в функционировании курултая и дивана, а также в наличии писцов-битикчи при ставке хана. Уникальная особенность этих ханств заключается в длительном сохранении престолонаследия только в одной из ветвей Шибанидов, происходившей от правителя 1420-х гг. Хаджи-Мухаммада. Источники дают основание для выявления института соправления братьев или отца и сыновей, которые в одно время занимали ханский престол. В истории сибирской государственности наблюдается постепенный рост зависимости ханов от аристократии, позиции которой укреплялись через курултаи и совет карачи-беков. При этом совет мог состоять не только из лидеров четырех основных племен, как это было в иных постордынских государствах. Тюменские и сибирские ханы предпочитали делегировать полномочия своим ближайшим родственникам как по крови, так и в рамках брачных отношений с представителями мангытов, кыйатов, буркутов и мусульманского духовенства. Определенную роль играли и служилые аристократы (князья-беки, мурзы, бахадуры), которые руководили ханской ставкой, отдельными юртами и военными отрядами, выполняли дипломатические и налоговые функции.
Тюменское ханство, сибирское ханство, постордынское время, властная элита
Короткий адрес: https://sciup.org/147203912
IDR: 147203912 | УДК: 94(57)3 | DOI: 10.17072/2219-3111-2017-2-122-131
Текст научной статьи Состав и функции властной элиты Тюменского и Сибирского ханств
Тюменское и Сибирское ханства как два наследующих друг другу государства на юге Западной Сибири1, где правила с 1468 по 1608 г. одна из ветвей династии Шибанидов (потомков Шибана б. Джучи б. Чингизхан), являются частью постордынского мира евразийских степей. Их становление напрямую связано с периодом существования так называемого «Государства кочевых узбеков» Абу-л-Хайра (1430–1468 гг.), создание которого началось именно на юге Западной Сибири, а первой оседлой столицей была Чимги-Туре (Тюмень)2. В данный момент специфика источниковой базы не позволяет успешно реконструировать внутреннюю политику правителей этих государств, а также особенности системы управления, в том числе распределения функций среди представителей местной властной элиты. Отдельные аспекты данного вопроса рассмотрены в работах Д.М.Исхакова [ Исхаков , 2006, с.143–158; 2011б, с.52–58].
В предлагаемой статье мы исходим из нескольких базовых предпосылок. Во-первых, Тюменское и Сибирское ханства должны были наследовать монгольские и золотоордынские политические традиции. Во-вторых, следует согласиться с В.В.Трепавловым в том, что «в "постордынском" мире, в условиях угасания инерции государственного потенциала Золотой Орды, происходила реанимация архаичных учреждений» [ Трепавлов , 2010, с.33]. В-третьих, на протяжении всего существования Тюменского и Сибирского ханств действовали схожие органы государственного управления.
На первом месте в системе управления стояли ханы из династии Шибанидов. В борьбе между ними за власть в 1420-х гг. участвовал хан Хаджи-Мухаммад б. Али б. Бек-Конди-оглан, чьи потомки и будут править в Тюмени и Сибири. В 1430 г. один из Шибанидов, Абу-л-Хайр, был избран кочевой знатью ханом на курултае, а спустя год в качестве тронного места он выбрал Чимги-Туру. Сыновья Хаджи-Мухаммада признавали этого хана в качестве Хан-и Бузург, что может являться калькой тюркского Улуг хан (Великий / Старший хан) (МИКХ, 1969, с.95). Лишь после его поражения от калмыков в 1457 г. иные ветви Шибанидов стали проявлять сепаратизм. В дан-
ный момент не ясно, насколько долго могло сохраниться самое политическое явление «Великого хана» среди Шибанидов, в том числе Западной Сибири. Симптоматично то, что основной противник потомков Абу-л-Хайра и убийца его сына Шайх-Хайдара Ибрахим б. Махмудек б. Хаджи-Мухаммад и его брат Мамук в источниках по очереди именовались «шибанскими царями» (ПСРЛ, 1982, с.95; 1901, с.242 – 243; Таварих…, 1969, с. 20). Это могло отражать их претензии на власть над всеми шибанидскими владениями, при этом в конце 1460-х–1490-х гг. они были наиболее активны среди представителей династии. В Бухарском и Хивинском ханствах в первой половине XVI в. сохранялась традиция соправления потомков Абу-л-Хайра, один из которых признавался в качестве «старшего» или «великого». Однако надо быть осторожнее, например, с попытками распространить власть бухарского правителя Абдаллаха II на территорию Западной Сибири, в том числе в качестве сюзерена Кучума [ Трепавлов , 2012, с.45].
В конце правления Абу-л-Хайра престол в Чимги-Туре стал передаваться по одной линии потомков Хаджи-Мухаммада: его сыновья Сайидек и Махмудек, затем дети Махмудека Ибрахим (с 1468 г.), Мамук и Агалак. Около 1505 г. в ходе внутреннего конфликта с последним престол перешел к Кутлуку б. Ибрахиму, а после него – к его брату Муртазе (Мусеке). С 1563 г. на престоле, но уже в Искере, по очереди были сыновья Муртазы Ахмад-Гирей и Кучум, позднее – потомки последнего хана, которых принято называть Кучумовичами. При этом братья-ханы (Сайидек и Ма-хмудек, Ибрахим и Мамук, Ахмад-Гирей и Кучум) могли рассматриваться как соправители на тюменском и сибирском престолах соответственно. Наличие института соправления свидетельствует о реставрации политических традиции предшествующего времени [ Трепавлов , 1992, р.249–278]. В целом же на протяжении чуть более 150 лет в рассматриваемых государств на юге Западной Сибири правила одна линия династии Шибанидов. В период существования постордынских государств аналогичная ситуация фиксируется только в Крымском ханстве Гиреев.
Традиционно в полномочия хана входили 1) распоряжение всеми землями государства; 2) объявление войны и заключение мира; 3) переговоры с иностранными государями (нарушение именно этого принципа сибирскими беками Тайбугидами привело к соответствующим санкциям и их отстранению от власти); 4) суд над всеми подданными; 5) издание законов и распоряжений [ Султанов , 2006, с.74; Почекаев , 2009, с.92]. Наиболее часто фиксируется участие всех тюменских и сибирских ханов в руководстве войсками и ведение переговоров с иностранными государями. Во втором случае главную роль играли переговоры с лидерами Московского государства и Ногайской Орды, основы которых во многом заложил тюменский хан Ибрахим. Для Кучума, видимо, важна была также переписка с бухарским ханом Абдаллахом II. Остальные полномочия хана гораздо в меньшей степени представлены в сохранившихся источниках и могут быть реконструированы лишь по аналогии с полномочиями других постордынских государей, хотя отрицать четвертое и пятое полномочия, по всей видимости, нет оснований.
Особенно сложен вопрос о контроле хана над землями. Уже анализ состава племенных лидеров из окружения Абу-л-Хайра показывает, что увеличение их роли приводило к преобладанию именно племенного или кланового владения землями при весьма формальной роли ханов за пределами ханского домена. Эта ситуация должна была сохраняться и в дальнейшем. Ханы Ибрахим и Кучум пытались изменить ее. Ибак вступил в конфликт с лидерами племен табын (связанного с кланами тюмен и уйшун) и буркут. Оба племени играли большую роль в западносибирской истории, что, видимо, и вызвало стремление ограничить их властные полномочия в условиях усиления ханской власти. Однако в первом случае лидеры табын вместе со своими улусами просто откочевали в Приуралье. Второй случай гораздо более сложен, поскольку один из лидеров буркутов, князь Мар из династии Тайбугидов, был женат на сестре Ибрахима. Позднее Ибак убил Мара, а затем сам был убит его внуком Маметом.
Согласно традиционной историографии после этого в середине 1490-х гг. Тайбугиды ушли из Чимги-Туры и основали свое княжество в Искере. Однако в последнее время все чаще возникают возражения против этой версии событий, а Тайбугидов предлагается рассматривать как сибирских беклярибеков (в историческом плане все эти сюжеты подробно рассмотрены [Маслюженко, 2008, с.91–118]). Этим объясняется как отсутствие мести им со стороны братьев Ибрахима, так и признание его сына Кутлука «сибирский царь» (Вычегодско-Вымская…, 1958, с.264). Данное указание означает, что на начало XVI в. именно он был сюзереном «Сибирской земли», где от его име- ни правили сибирские князья Тайбугиды, сохранившие свое положение. Все это говорит об отсутствии у ханов реального инструмента влияния на элиту.
По всей видимости, пытался изменить территориально- административную систему Сибирского ханства в 1570-е гг. внук Ибака Кучум [ Матвеев, Татауров , 2012, с.126–136]. На разных землях его ханства она значительно варьировалась. Примеры с ногайскими мирзами Чином и Али свидетельствуют о возможности хана назначать управленцев, в частности, Али владел еще в 1590-х гг. семью волостями по Иртышу [ Миллер , 1999, с.362]. По всей видимости, определенные земли были и под контролем кровных родственников хана, в частности, его брата Илитеня и племянника Мухаммад-Кула [ Бахрушин , 1955, с.155]. Исходя из значительного территориального расширения ханства Кучума за счет западносибирских земель возникает вопрос о том, получили ли ханские союзники и родственники в управление именно присоединенные земли на периферии государства или же внутренние территории. В ханствах должен был быть и царский домен, где происходила перекочевка Орда-Базара, т.е. кочевой ставки, являвшейся основным политическим центром Шибани-дов. При этом значительную часть времени тюменские и сибирские правители проводили в степях Северного и Западного Казахстана, а также в Приаралье и присырдарьинском регионе, что осложняет решение поставленного вопроса [ Маслюженко, Татауров , 2015, с.135–144].
Принципы получения власти ханами не всегда четко представлены в имеющихся источниках, хотя после Ибрахима престол будут занимать лишь его родственники: вначале из числа братьев (примерно в 1495–1505 гг.), а потом только из сыновей и внуков, причем, за исключением Кут-лука в 1505–1510-х гг., это будут только потомки Муртазы б. Ибака. Скорее всего, ханы приходили к власти не только на основании принадлежности к «золотому роду» Чингизидов, как обладатели соответствующей харизмы, но и при поддержке большого числа представителей кочевой аристократии, влияние которой в XV–XVI вв. постоянно росло. Это хорошо заметно по праздникам и церемониям при дворе Абу-л-Хайра, вписанным в курултай и ориентированным именно на элиту общества [ Маслюженко , 2014, с.121–138]. С другой стороны, именно эта поддержка провоцировала ханов на частые и желательно победоносные войны с соседями, без которых невозможно было обеспечить стабильность власти [ Трепавлов , 2010, с.28].
Обратим внимание на то, что такой орган, как курултай, часто встречается в ходе знакомства с историей правления Абу-л-Хайра, но затем в источниках практические не упоминается. Однако в 1555–1563 гг. князь Едигер начал дипломатические переговоры с Москвой, согласовав это со «всей Сибирской землей» (ПСРЛ, 1904, с.248), позднее он, видимо, фиксируется в образе «сибирских людей», которые пригласили на правление царевича из Шибанидов (ПСРЛ, 1906, с.370), которым был Ахмад-Гирей б. Муртаза. Вероятно, в экстренных случаях собирался совет аристократии разного уровня, который по своим функциям был схож с курултаем более раннего времени. С ним были согласованы и переговоры Кучума с Иваном IV в конце 1560-х – начале 1570-х гг. (СГГД, 1819, с.64). Таким образом, участники курултая не только влияли на избрание хана, но и участвовали в выработке внешнеполитической, в том числе военной, концепции. Реставрация этого архаичного института свидетельствует об увеличении зависимости ханов от племенной аристократии.
При хане находились его многочисленные родственники, которые, по мнению Р.Ю. Почекаева, вместе с гургенами (ханскими зятьями из числа представителей светской и религиозной верхушки) в Улусе Джучи составляли своеобразный семейный совет [ Почекаев , 2009, с. 98]. В сибирских условиях они кочевали вместе с ханской ставкой, что подтверждается данными о плененных и убитых родственниках Кучума после его разгрома в 1598 г. (АИ, 1841б, с.3–6). Как правило, часть их играла большую роль в военных делах, как представляя свои отряды, что хорошо видно по деятельности Абу-л-Хайра, так и участвуя в управлении войском и государством. О роли в управлении армейскими структурами можно судить по деятельности Бахтийара при Абу-л-Хайре, Мамука при Ибаке, Маметкула и позднее Али при Кучуме, а также, возможно, Ахмад-Гирея при Муртазе. Трудно сказать, могли ли они рассматриваться как официальные наследники, хотя ими стали Мамук, Ахмад-Гирей и Али. Стремление передоверить управление войсками именно своему родственнику может быть объяснено желанием дистанцироваться от племенной аристократии хотя бы в этой области.
Важнейшей фигурой в управлении ханством традиционно был беклярибек, который представлял одно из крупнейших племен и мог входить в состав совета карачи-беков. В период Золотой Орды беклярибек был не только верховным главнокомандующим [Почекаев, 2009, с.99], но и свое- образным «премьер-министром». В рассматриваемых нами ханствах военная функция беклярибека не всегда очевидна, поскольку часто ее выполняли ханские родственники и будущие наследники.
По мнению В.В. Трепавлова, согласно традиции в качестве беклярибеков таковых при Ши-банидах чаще всего выступали представители мангытов. При Хаджи-Мухаммаде им был Мансур б. Едигей, а при Абу-л-Хайре этот пост занимал Ваккас б. Нур ад-Дин б. Эдигей [ Трепавлов , 2002, с.91–92]. Они могли не принимать прямого участия в управлении Тюменским или Сибирским ханством. Мангытские бии в большей степени были заинтересованы в этом титуле для повышения политического статуса своего и представляемой ими Ногайской Орды. Они заметны лишь в тех случаях, когда организовывались военные походы против соседей. Возможно, по этой причине их реальная роль в структуре управления была невелика, что требовало некоторого перераспределения их функций.
Анализ перечней сподвижников Абу-л-Хайра показывает, что Ваккас упоминается в них всего три раза. Впервые он указан при избрании хана, а на первое место выходит лишь в походах на Сыгнак и ханов Махмуда и Ахмада, т.е. Ваккас был беклярибеком лишь между 1446 и 1450 гг. Столько же раз, как он, но на первых местах в этих списках встречаются представители буркутов (Умар-бий и Адад-бек), которые уступили хану Чимги-туру, ставшую местом его престола. Однако чаще всего (четыре раза) почетное первое место занимает Бузанджар-бий кыйат, уступая главенство лишь два раза буркутам и два раза Ваккасу. При этом Бузанджар участвуют во всех мероприятиях хана. В тех случаях, когда в перечне его оттесняют с первого места, он трижды упоминается на втором месте и один раз – на третьем (после мангытов и буркутов). Возможно, что за долгое правление Абу-л-Хайра беклярибек неоднократно сменялся, однако выбор из омаков был сравнительно ограничен (мангыты, буркуты, кыйаты) [ Маслюженко , 2015б, с.44–60].
Ибрахиму, видимо, удавалось некоторое время дистанцироваться от могущественных лидеров Ногайской Орды. Хотя в письме крымского хана Менгли-Гирея к королю Казимиру IV о событиях 1481 г. с титулом князя (т.е. беклярибека), вероятно, назван брат Ваккаса Аббас, который до 1491 г. руководил Ногаями (Сборник…, 1866, с.29) [ Трепавлов , 2002, с.117]. В какой-то период до этого беклярибеком мог быть и представитель буркутов Умар (Мар). На эту же должность во время пребывания в Тюмени после 1491 г. мог претендовать и казанский князь князей Алгазый из Ширинов. Однако вскоре после смерти Аббаса ногайским бием стал Муса б. Ваккас, которого признал беклярибеком Ибрахим [ Трепавлов , 2002, с.118]. В походах на Казань Мамука в 1496 г. и Ага-лака в 1498 г. участвовал также князь казанских князей Урак (ПСРЛ, 1901, с.249–250).
Выделить беклярибеков в XVI в. гораздо сложнее, поскольку могла неоднократно происходить смена их. В первой половине XVI в. до размолвки с Шибанидами беклярибеками вновь были буркутские князья из Тайбугидов [ Исхаков , 2008, с.152]. Вопрос о том, кто занимал эту должность при Кучуме, однозначно не решен. По мнению В.В. Трепавлова, это мог быть племянник хана Мамет-Кул [ Трепавлов , 2012, с.134]. Д.М. Исхаков предполагает, что это был известный из Ремезов-ской летописи «Большой князь Бегиш», вместе с которым в бою против Ермака участвовали «карачинцы» (Сибирские летописи, 1907, с.341) [ Исхаков, Измайлов , 2007, с.271]. Однако при Ку-чуме был известен и Карача, который оказал сопротивление Ермаку на Тоболе, а затем дважды пытался отбить Искер у казаков. Принято считать, что беклярибеком был джалаир Кадыр-Али бек, но, по мнению А.В.Белякова, этим карачей, скорее, был Мамет (Мухаммед) [ Беляков , 2014, с.63]. Последним беклярибеком был вновь представитель Ногайской Орды Али б. Ураз-Мухаммад при своем тезке хане Али б. Кучуме [ Трепавлов , 2012, с.134].
«Князь князей» мог руководить советом карачи-беков, вторым по значимости после семейного в системе управления. Его состав на протяжении всей истории сибирско-татарской государственности и вопросы наследования, связанные с предшествующей золотоордынской в целом и шибанидской в частности традицией, подробно рассмотрены Д.М. Исхаковым [Исхаков, 2011б, с.52–58]. Именно в существовании этого совета автор видит один из явных механизмов наследования ордынской политической традиции, характерный для всех государств-наследников Улуса Джучи. В то же время большая часть имеющейся по этому вопросу информации строится на косвенных указаниях о племенах из ближайшего окружения ханов Шибанидов [Маслюженко, 2015б, с.44–60]. Непосредственное указание на существование совета карачи-беков относится лишь к Узбекскому ханству после смерти Абу-л-Хайра, т.е. скорее всего совет существовал и при его жизни (МИКХ, 1969, с.19). Тем не менее из этого указания не следует, что совет состоял из представите- лей четырех племен, как в Золотой Орде и Крымском ханстве [Трепавлов, 2012, с.31–32]. Увеличение роли племен и их лидеров в условиях дезинтеграции постордынского политического пространства могло привести в совет большее число людей.
Списки соратников позволяют выявить в окружении Абу-л-Хайра руководителей дивана (канцелярии), которые назначались ханом. В начале правления таким руководителем был Ички-Йабагу-диван уйгур, который участвовал в выборах хана, хотя в описании событий 1440-х гг. он упоминается уже без элемента «диван». Скорее всего, новым руководителем дивана стал Даулат-Ходжа-диван кушчи, что также подчеркивало значение этого клана в составе нового государства. Причем по другим источникам известно, что он был еще кукельташем молодого хана (МИКХ, 1969, с.98). Однако при описании деятельности иных тюменских и сибирских правителей этот орган управления не упоминается. Лишь при Кучуме один из карача-беков указан как «думный», что, по мнению исследователей, может свидетельствовать о существовании дивана [ Исхаков, Измайлов , 2007, с.271]. Возможно, этот орган был восстановлен под влиянием бухарских традиций, с которыми в середине XVI в. была связана сибирская правящая семья.
При диване должны были состоять и чиновники низшего статуса, в частности, отвечавшие за оформление документов. Так, во время переговоров с уфимским воеводой Михаилом Нагим в 1600–1601 гг. ему были присланы ярлыки Али и Азима, а находившийся в Уфе Ишим посылал к братьям «ярлык татарским письмом... за своим знаменем (тамгой? - Д.М .)» [ Миллер , 2000, с.195]. Оформление этих документов предполагало должность при ставках царевичей писца-битикчи [ Абзалов , 2013, с.156], а также, возможно, толмача, который мог перевести грамоты, присылаемые русскими администраторами. Если эти должности лица сохранялись в начале XVII в., то резонно предположить, что они были и при ставках Ибрахима и Кучума, которые вели гораздо более обширную переписку.
К высшему управлению мог также относиться так называемый «базарский князь». Под таким титулом в 1489 г. указан Чюмгур, который возглавлял посольство хана Ибрахима в Москву (Посольские..., 1995, с.19). По всей видимости, этот человек руководил уведенным в Тюмень орда-базаром хана Большой Орды Ахмада. Подобная функция должна была сохраниться и в дальнейшем с учетом образа жизни в условиях перекочевки ханской ставки.
Внешнеполитические функции послов могли выполнять и иные люди. Так, послом царевича Ак-Курта в Москву в 1507 г. был князь Телевлю из кыйатов (Посольские…, 1995, с.54). Послами могли быть и простые служилые татары, при этом было бы интересно проанализировать соотношение важности миссии, статуса посла и принимающей стороны.
Важную экономическую роль играли даруги, т.е. ханские наместники и сборщики налогов. Они известны нам по заголовку «Рассказ о пожаловании должности даруг Чимги-Туры» в историческом сочинении Кухистани, где ими были четыре человека из числа тарханов, дурменов и найманов [ Мустакимов , 2011, с.233].
При ставке хана также находились беки, мурзы и бахадуры, которые входили и в военный отряд. Например, 4 сентября 1598 г. при разгроме хана Кучума погибли шесть беков и десять мирз (АИ, 1841б, с. 3–5). Их функционал при этом не нашел своего отражения в источниках. При ставке же должны были быть кукельташи и аталыки, т.е. дядьки-воспитатели ханских сыновей. Так, уйгур Бай-Шайх-кукельташ был аталыком (воспитателем) наследника Абу-л-Хайра Шах-Будаг-султана, а затем ему было поручено воспитание детей султана, в том числе будущего хана Мухаммада Шейбани (МИКХ, 1969, с. 97). Должность аталыка также была доверена ханом Хаким-Шайх-бахадуру из кушчи. Аталыки известны и при хане Кучуме, когда в битве на Оби погибли пять аталыков (АИ, 1841б, с. 3–5). В 1600–1601 г. в окружении Кучумовичей, в частности Азима, был известен его аталык Козембердей [ Миллер , 2000, с.195], который в том числе собирал подати и подарки.
Помимо них выделяется категория служилой знати, которая могла обозначаться скорее всего понятием «ички». Это были находившиеся при хане доверенные лица, имевшие право входить к нему и руководившие жизнью ставки и двора (МИКХ, 1969, с.493). Число служилых татар было небольшим. Так, у правителя Тюменского ханства хана Ибрагима (Ибака) во время похода 1481 г. против Большой Орды насчитывалась только 1 тыс. собственных казаков (ПСРЛ, 1982, с.95). Служилые татары Ташкин, Таймас, Аиса выполняли функции послов и гонцов в ходе переговоров Муртазы и его сыновей Ахмад-Гирея и Кучума с Москвой (ПДРВ, 1801, с.22; АИ, 1841а, с.340), а послом сибирского князя Едигера в Москву в 1563 г. был татарин Чибичень или Чигибень (ПДРВ,
1795, с.303). Кроме военных и дипломатических функций они могли выполнять функции сбора налогов и управления юртами.
Вопросы местного управления и административного деления Тюменского и Сибирского ханств были одними из самых сложных. В основе административного деления могли лежать как принципы племенного деления, согласно которым за каждым клановым лидером закреплялись юрт с выделенными зимовками и летовками, так и наделение юртами и улусами приближенных и родственников хана. Отчасти могло сохраняться деление по десятичному принципу. Данная система могла варьироваться на протяжении двух столетий существования Тюменского и Сибирского ханств. Ее наследие должно было сохраняться в волостном делении сибирских уездов Московского государства в конце XVI–XVII в. Так, в наказе князю Андрею Елецкому среди руководителей волостей по Иртышу, которые в 1593–1594 гг. платили ясак как Кучуму, так и русскому государю, указаны и князья, и лучшие люди, и ясаулы [ Миллер , 1999, с.352].
Исламизация Тюменского и Сибирского ханств привела в состав элиты представителей этой религии. Высшими духовными лицами в тюрко-татарских государствах были сейиды. При хане постоянно находились представители суфийских орденов, в частности, при Абу-л-Хайре Кул-Мухаммад-сейиде и Кара-сейиде, которые в том числе принимали участи в курултаях (МИКХ, 1969, с.121-134). Последнее было признаком инкорпорации мусульманских институтов в систему власти [ Почекаев , 2016, с.120]. При этом эти сейиды также руководили отрядами во время военных действий, т.е. могли быть накибами [ DeWeese , 1995, p.619–620]. Известны имена двух верховных сейидов в Сибирском ханстве – это Ярым и его племянник Дин-Али [ Исхаков , 2011а, с. 170–171]. Кроме них при Кучуме в 1598 г. был сейид Тул-Мухаммад (АИ, 1841б, с.7), а в 1607 г. от Азима б. Кучума бежал находившийся при нем некий Сеит [ Миллер , 2000, с.240]. Сейиды из Центральной Азии сопровождали шейхов (например, Ширбети в 1570-х гг.). Кроме них в Сибирском ханстве присутствовали муллы, ходжи, абызы (хафизы), муфтии и мударрисы [ Исхаков, Измайлов , 2007, с. 271].
Традиционно на сейидов и абызов возлагались обязанности по отправлению исламских обрядов, но они имели значительное влияние на жизнь ставки в целом. Так, в 1601 г. царевич Хаджим отправил к башкирам собирать «одежи и кормы» хафиза Алибая [ Трепавлов , 2012, с. 133]. Будучи признанными авторитетами, они выполняли и дипломатические функции (например, письма от Кучума Абдаллаху и обратно перевозили сейид Дин Али и абыз Игибердей; переговоры в Тюмени от царевичей Хаджима и Каная вел хафиз Менглибай) (РГАДА. Ф. 131. Оп. 1. 1598 г.1. Л. 6; РГАДА. Ф. 109. Оп. 2. 1595 г. Д. 2. Л.1) [ Трепавлов , 2012, с. 133]. Эта роль сейидов и абызов в международной деятельности говорит о значимости суфийских орденов в государствах Шибанидов этого времени [ Маслюженко , 2015а, с.5–9] и отражает еще один момент ордынского политического наследия [ Почекаев , 2016, с.120]. А.В. Беляков пишет, что «отмечены абызы и при "казакующих" сибирских царевичах в середине XVII в. … о них говорится… как о лицах, которые способны прочитать царскую грамоту, посланную из Москвы в калмыцкие улусы» [ Беляков , 2015, с.40]. Племенная или территориальная принадлежность этих людей почти никогда не фиксируется в документах, хотя известно, что при Канае б. Кучуме посланный с дипломатический миссией в Москву абыз Безелек был из Чатов [ Миллер , 2000, с.196].
Таким образом, Тюменское и Сибирское ханства по составу и функциям властной элиты, включавшей в себя светскую и мусульманскую верхушки, во многом были схожи с другими татарскими государствами XV–XVI вв. Особенно это заметно в функциях сейидов и абызов, аталыков и кукельташей, сохранении традиций документооборота, в том числе через диван и находившихся при ставках писцов-битикчи. К уникальным чертам относится в значительной степени передача в этих ханства власти в рамках одной семьи Шибанидов, родственных тюменскому хану Ибрахиму, чей дед Хаджи-Мухаммад был одним из претендентов на власть на рассматриваемой территории еще в начале 1420-х гг. Не менее важной была, на наш взгляд, усиливающаяся зависимость ханов от племенной аристократии, которая оказывала влияние на политику государств через курултаи и расширенный состав совета карачи-беков. Последний, скорее всего, не был ограничен лишь лидерами четырех ведущих племен. Хотя нам ясен состав и происхождение беклярибеков Тюменского и Сибирского ханств, но не всегда понятен их функционал внутри государства, с учетом того, что занимавшие этот пост Эдигеевичи чаще находились на территории соседней Ногайской Орды. Возможно, в этом случаи они ограничивались лишь участием в совместных военных походах. Однако беклярибеки из кыйатов, буркутов или иных местных тюркских племен могли иметь полномочия и в иных сферах, что особенно заметно по политике Тайбугидов в Искере в первой половине XVI в.
Список литературы Состав и функции властной элиты Тюменского и Сибирского ханств
- Абзалов Л.Ф. Ордынская канцелярия. Казань: Татарское книж. изд-во, 2013. 333 с
- Бахрушин С.В. Сибирские служилые татары в XVII в.//Науч. труды. Т.З. Избранные работы по истории Сибири XVI-XVII вв. 4.2: История народов Сибири в XVI-XVII вв. М.: Изд-во АН СССР, 1955.С.153-175
- Беляков А.В. Как звали большого сибирского карачу?//История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: Матер. II Всерос. науч. конф. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2014. С.63-64
- Беляков А.В. Абызы (хафизы) в Московском государстве XVI-XVII вв. // Средневековые тюрко-татарские государства. 2015. № 7. С.40-45
- Исхаков Д.М. Введение в историю Сибирского ханства: Очерки. Казань, 2006. 196 с.
- Исхаков Д.М. Институт «Сибирских князей»: генезис, клановые основы и место в социально-политической структуре Сибирского юрта//Сулеймановские чтения: Матер. XI Всерос. науч.-практ. конф. Тобольск, 2008. С. 219-222.
- Исхаков Д.М. Институт сеййидов в Улусе Джучи и в позднезолотоордынских тюрко-татарских государствах. Казань: Фэн, 2011а. 228 с.
- Исхаков Д.М. Позднезолотоордынская государственность тюрко-татар Сибирского региона: в поисках социально-политических основ//История, экономика и культура средневековых тюрко-татарских государств Западной Сибири: Матер, междунар. конф. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 20116. С. 52-58.
- Исхаков Д.М., Измайлов ИЛ. Этнополитическая история татар (III -середина XVI в.). Казань: Школа, 2007. 356 с
- Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в средние века. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2008. 168 с
- Маслюженко Д.Н. Тюрко-монгольские традиции в «государстве кочевых узбеков» хана Абу-л-Хайра//Золотоордынское обозрение. 2014. № 3 (5). С.121-138
- Маслюженко Д.Н. Деятельность суфийских орденов на территории Тюменского и Сибирского ханств//Вестник Томского государственного университета. История. 2015а. № 2 (34). С.5-9
- Маслюженко Д.Н. Поименные списки соратников Абу-л-Хайра как источник по изучению политической истории Юго-Западной Сибири второй четверти XV в.//Сибирский сборник. Курган: Изд-во Курганского гос. ун-та, 2015. Вып.З. С.44-60
- Маслюженко Д.Н., Татауров С.Ф. Искер как мифологема в изучении истории Сибирского ханства//Золотоордынское обозрение. 2015. № 4. С. 135-144
- Матвеев А.В., Татауров С.Ф. Сибирское ханство: военно-политические аспекты истории. Казань: Фэн,2012.260с
- Миллер Г.Ф. История Сибири. М.: Изд. фирма «Вост. лит-ра» РАН, 1999. Т.1. 630 с; 2000. Т.2. 796 с
- Мустакимов И.А. Сведения «Таварих-и гузида -Нусрат-наме» о владениях некоторых джучидов//Тюркологический сборник. 2009-2010: Тюркские народы Евразии в древности и средневековье. М.: Вост.лит-ра, 2011. С. 228-248
- Почекаев Р.Ю. Право Золотой Орды. Казань: Фэн, 2009. 260 с
- Почекаев Р.Ю. Инкорпорация мусульманских институтов во властную структуру Золотой Орды и постордынских государств//Золотоордынское обозрение. 2016. № 1. С. 115-127
- Султанов Т.Н. Чингиз-хан и Чингизиды: Судьба и власть. М.: ACT, 2006. 445 с
- Трепавлов В.В. Соправительство в Монгольской империи (XIII в.) // Archivum Eurasiae Mediiaevi. Т.7 (1987-1991). Wiesbaden, 1992. P.249-278
- Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М.: Изд. фирма «Вост. лит-ра» РАН, 2002. 752 с
- Трепавлов В.В. Сибирский юрт после Ермака: Кучум и Кучумовичи в борьбе за реванш. М.: Вост.лит., 2012. 231 с
- De Weese D. The Descendants of Sayyid Ata and the Rank of Naqib in Central Asia//Journal of the American Oriental Society. 1995. 115. 4. P.612-634
- Трепавлов В.В. Большая Орда -Тахт эли: Очерк истории. Тула: «Гриф и К», 2010. 112. с