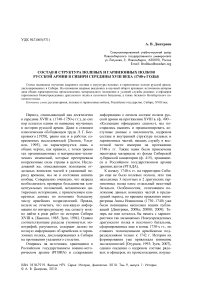Состав и структура полевых и гарнизонных полков русской армии в Сибири середины XVIII века (1740-е годы)
Автор: Дмитриев Андрей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению кадрового состава и структуры полевых и гарнизонных полков русской армии, дислоцированных в Сибири. На основании впервые введенных в научный оборот архивных источников автором дана общая характеристика происхождения, материального положения и условий службы рядовых и офицеров гарнизонных Новоучрежденных драгунского полка и пехотного батальона, а также полевого Нотебургского пехотного полка.
Русская армия, полевые и гарнизонные войска, российское государство, сибирь, xviii век
Короткий адрес: https://sciup.org/14737213
IDR: 14737213 | УДК: 947.065(571)
Текст научной статьи Состав и структура полевых и гарнизонных полков русской армии в Сибири середины XVIII века (1740-е годы)
Период, охватывающий два десятилетия в середине XVIII в. (1740–1750-е гг.), до сих пор остается одним из наименее изученных в истории русской армии. Даже в ставшем классическим обобщающем труде Л. Г. Бескровного [1958], равно как и в работах современных исследователей [Леонов, Ульянов, 1995], он характеризуется лишь в общих чертах, как правило, с точки зрения тех организационных и материально-технических изменений, которые претерпевали вооруженные силы страны в целом. Исследований же, описывающих положение отдельных воинских частей в указанный период времени, мы не в состоянии назвать вообще. Совершенно очевидно, что назрела необходимость проверки большинства концептуальных положений, механически цитируемых историками, с привлечением конкретных данных по возможно большему числу армейских подразделений. Правда, нельзя не отметить, что кое-какую информацию по интересующему нас сюжету можно найти в ряде работ по истории Сибири XVIII в. [Быконя, 1985; Зуев, 1994]. Однако соответствующие разделы упомянутых монографий, разумеется, содержат далеко не полную информацию об армейских и гарнизонных полках, дислоцированных в Сибири на протяжении указанного столетия.
Опираясь на источники, хранящиеся в Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА) и содержащие информацию о личном составе полков русской армии на протяжении XVIII в. (ф. 490 – «Коллекция офицерских сказок»), мы постарались выявить и проанализировать доступные данные о численности, кадровом составе и внутренней структуре полевых и гарнизонных частей, несших службу в восточной части империи на протяжении 1740-х гг. Также нами были привлечены некоторые материалы из фонда Сибирской губернской канцелярии (ф. 415), хранящиеся в Российском государственном архиве древних актов (РГАДА).
К началу 1740-х гг. на территории Сибири еще не было полевых полков, зато там находились 3 пехотных и 2 драгунских гарнизонных полка плюс отдельный пехотный батальон. Особенностям, отличавшим положение данных воинских частей в предыдущий период, во времена правления императрицы Анны Иоанновны (1730–1740) уже были посвящены несколько наших публикаций [Дмитриев, 2008а; 2008б; 2009]. Теперь же нам хотелось бы начать с характеристики так называемых Новоучрежденных драгунского полка и пехотного батальона, сформированных еще в конце 1730-х гг., но ставших полноценными армейскими подразделениями только к 1742 г. История их формирования уже привлекала внимание исследователей [Огурцов, 1993; Зуев, 2007], однако сведения о кадровом составе рядовых и офицеров, их происхождении, имуще-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2010. Том 9, выпуск 1: История © А. В. Дмитриев, 2010
ственном положении пока не введены в научный оборот.
В нашем распоряжении есть именные списки личного состава Новоучрежденных драгунского полка и пехотного батальона за 1742 г. 1 Согласно этим данным, на момент проведения инспекторского смотра в октябре 1742 г. Новоучрежденный драгунский полк был полностью укомплектован рядовыми – 820 драгун, составлявших 10 рот, а также отдельная гренадерская рота, насчитывавшая 100 чел., итого 920 чел., как это и требовалось штатами [Бескровный, 1958. С. 58, 61]. Надо заметить, что с приходом к власти императрицы Елизаветы во всех полках, армейских и гарнизонных, пехотных и кавалерийских, снова были восстановлены отдельные роты гренадер, прежде расформированные [Там же. С. 63, 65]. При этом, как отмечают современные исследователи, «гренадерские части и подразделения при Елизавете Петровне были поставлены в привилегированное положение» [Леонов, Ульянов, 1995. С. 70], однако целесообразность подобных мер, особенно для драгунских полков, нередко ставится под сомнение [Гаврищук, 2003. С. 79, 80]. Сведения о сословном статусе, географии происхождения и времени несения службы дают, по нашим подсчетам, следующую картину.
Более половины драгун Новоучрежден-ного полка происходили из сибирских казаков: 498 чел. показали себя в именных списках «из казачьих детей» (54 %). Значительную долю составляли также дети сибирских крестьян, таковых насчитывалось 184 чел. (20 %). Наконец, здесь можно встретить также выходцев «из разночинцев», ямщиков и сыновей сибирских драгун. Заметим при этом, что существовала четкая хронологическая граница между теми, кто попали в состав полка в ходе первого набора 1738 г. (здесь подавляющее большинство составляли именно казаки, что подтверждают и цифры, приведенные А. С. Зуевым [2007. С. 26]), и теми, кто прибавились к ним по результатам рекрутского набора прошлого 1741 г. (выходцы из крестьян, городских разночинцев, ямщиков). Действительно, с 1738 г. несли службу 427 чел., а в 1741 г. поступили в полк еще 339 чел. Полный подсчет численности людей, представлявших конкретные сибирские города, про- извести затруднительно, поскольку многие драгуны в качестве места своего проживания до начала военной службы указывали не города, а отдельные слободы в границах тех или иных уездов, или же просто писали себя выходцами из какого-либо дистрикта (например, Ишимского или Ялуторовского). Тем не менее, вот цифры по некоторым из крупных городов Сибири: Кузнецк – 143, Тара – 114, Томск – 114, Красноярск – 113, Енисейск – 51, Тобольск – 38, Нерчинск – 28, Тюмень – 26. Хотя Новоучрежденный полк дислоцировался в Западной Сибири, но наборы в него проводились во всех сибирских городах, как это уже отмечал А. С. Зуев [Там же. С. 25, 26]. На момент проведения смотра при полку оказались налицо лишь 130 чел., большая же часть рядовых находились «в командированиях», охраняя южную границу – в г. Кузнецке «на форпосте» 252 чел., в Ишимском дистрикте 395 чел.
А вот среди штаб- и обер-офицеров полка сибирских уроженцев было не так много 2. Назначенный командиром полка в 1741 г. Тимофей Зорин происходил из дворян Волоколамска, а премьер-майор И. Ке-неман был выходцем из германского герцогства Саксен-Кобург. Зато подполковник П. Шарыгин являлся как раз местным уроженцем: из дворянских детей г. Туринска. К дворянским фамилиям европейской части страны принадлежали капитаны В. Шестаков (Кострома) и А. Бибиков (Вологда), поручики М. Щетнев (Ярославль), М. Карякин (Бежинск, Тверская губ.), А. Поливанов (Кострома), И. Кобяков (Копорье, Санкт-Петербургская губ.), В. Ростовцев (Кострома), С. Волков (Руза, Московская губ.), З. Прямоглядов (Коломна), прапорщики И. Мельгунов (Зарайск, Московская губ.), А. Теницкий (Тула), В. Овцын (Москва). Кроме того, мы находим здесь выслужившихся из «неблагородных» сословий: капитанов В. Соколова (из посадских Олонца) и П. Фадеева (из монастырских слуг Переяс-лавля-Залесского), поручиков И. Пестова (аналогично Фадееву) и А. Тарасова (этот вообще был человеком помещика-поляка из
Серпухова), прапорщиков В. Боровикова (из крестьян Твери) и Ф. Вирачева (из крестьян Устюга Великого). Были среди полковых офицеров и иноземцы. Так, поручик В. Томилин заявил, что он происходит «из шляхтичей швецкой нации местечка Уллыселы» (видимо, при переходе на русскую службу он переменил имя); прапорщик И. Функ принадлежал к лифляндскому дворянству, а его сослуживец А. Шилман родился в Ревеле.
Сибиряков же представляли капитаны Г. Васильев (драгунский сын Царева Городища), И. Новоселов (из тобольского купечества), М. Толбузин (принадлежал к старинной тобольской фамилии сибирских дворян), поручик В. Проскуряков (из крестьянских детей Ялуторовского дистрикта), прапорщики Г. Давыдов (сын драгуна Ме-хонской слободы), Ф. Сухотин (из красноярских детей боярских), С. Кузнецов (сын крестьянина из Краснослободского дистрикта). Этим офицерский корпус Новоуч-режденного драгунского полка заметно отличался от кадрового состава здешних пехотных полков, где большинство офицеров были местными уроженцами [Дмитриев, 2008а. С. 123; 2009. С. 14]. Подобная ситуация была результатом принятого в свое время решения об укомплектовании Новоучре-жденных драгунского полка и пехотного батальона офицерами «ис таких, которые ис полевой армии к отставке присыланы бывают и гварнизонную службу снести могут» 3. Правда, из всех перечисленных офицеров лишь 12 чел. уже находились в возрасте 50 и более лет, остальные были значительно моложе. Вероятно, это говорит о том, что в конце 1730-х гг. Военной коллегии не удалось найти достаточного числа отставных офицеров, так что пришлось не только переводить их сюда из армейских частей, но и производить в обер-офицерские чины сибирских уроженцев. Кроме того, не менее 10 обер-офицеров полка являлись владельцами земель и крепостных крестьян, причем некоторых из них вполне можно назвать состоятельными помещиками: так, у поручика Карякина насчитывалось 100 душ крестьян мужского пола (далее – м. п.), а поручик Кобяков владел даже 500 душами м. п.
Сходную картину мы наблюдаем и по Новоучрежденному пехотному батальону. На момент проведения смотра (октябрь 1742 г.) батальон состоял из 4 рот, насчитывая всего 672 солдата. Штатная численность каждой роты была определена в 168 чел., что несколько превышало цифры, утвержденные как для гарнизонных (120 чел.), так и для полевых пехотных полков (144 чел.) [Бескровный, 1958. С. 63; Дмитриев, 2009. С. 12]. Объясняется это, видимо, тем обстоятельством, что в батальоне вообще не было гренадер, так что за счет их отсутствия увеличили число солдат. Среди них 233 чел. происходили из сибирских казаков (35 %), 216 – из местных крестьян (32 %), остальные были представлены выходцами из «разночинцев», посадских людей и солдатских детей. География их происхождения по сибирским городам дает следующие цифры: Томск – 91 чел., Тобольск – 83, Тюмень – 66, Енисейск – 49, Верхотурье – 46, Красноярск – 36, Березов – 24, Кузнецк – 18. Кроме того, немалая часть бывших крестьян просто показывали себя уроженцами одного из дистриктов Тобольской провинции: Ялуторовского, Краснослободского, Ишимского, так что установить точно, откуда они были взяты на военную службу, оказывается невозможно. Зато можно точно выяснить, когда они оказались в составе батальона: с 1738 г. служили 214 чел., а как раз в 1742 г. к ним присоединились 351 чел. Как видим, и полк, и батальон обрели надлежащую штатную численность лишь к 1742 г., это и позволяет нам утверждать, что именно тогда они сделались полноценными частями гарнизонных войск русской армии.
Укомплектовать же батальон офицерами не удалось и к 1742 г. По крайней мере, по данным инспекторского смотра их насчитывалось тогда всего 10 чел. 4 Шестеро были присланы сюда для прохождения службы из европейских губерний, четверо из них принадлежали к «шляхетству»: капитаны князь Г. Девлет-Киндеев и А. Нелидов, поручики П. Костюрин и И. Бельский. Заметим, кстати, что капитан Девлет-Киндеев является первым представителем княжеской фамилии, отмеченным нами в составе одного из подразделений гарнизонных войск в Сибири. До этого случая выходцы из титулованной аристократии в именных списках личного состава этих подразделений нам не встречались. Двое других – прапорщики Г. Чанов (из крестьян г. Яренска Устюжской губ.) и Ф. Дмитриев (сын попа из г. Ржева) 5. Сибирских уроженцев представляли поручик С. Меншиков (солдатский сын из Ка-тайского острога), прапорщик В. Чередов (из старого рода сибирских дворян, еще с XVII в. несших службу по Таре), прапорщик С. Выходцов (из тобольских дворян). Особое внимание стоит обратить на капитана М. Бабановского (из тобольских детей боярских), впоследствии «прославившегося» в должности полицмейстера Тобольска борьбой с всемогущим губернатором А. М. Сухаревым, в ходе которой на его жизнь покушались (возможно, по приказу губернатора) солдаты расквартированного там Ширванского пехотного полка [Кузнецов, 1891; Акишин, 2003. С. 248, 249].
Вопрос о нехватке офицерских кадров в батальоне поставил перед Сибирской губернской канцелярией еще в конце 1740 г. подполковник Сибирского гарнизонного драгунского полка Я. Павлуцкий. В связи с ожидавшимся приездом сюда полковника Астраханского гарнизонного драгунского полка князя И. А. Еделева для проведения смотров сибирским гарнизонным частям (соответствующее распоряжение исходило от генерал-лейтенанта князя В. А. Урусова и генерал-майора Л. Я. Соймонова) Павлуц-кий просил «прислать от Сибирской губернской канцелярии Тоболского или Енисейского пехотных полков одного штап афицера, понеже оной баталион без штап афицера в наилутчую исправность при-весть… и к генералному смотру представить во всякой исправности… невозможно» 6. Поскольку просьба эта выполнена не была, и без штаб-офицера «к минувшему генерал-ному инспекторскому смотру в сочинении о людях фамилных имянных списков и репортов, а о ружье, мундире и амуницыи табелей чинилось немалое затруднение», Павлуц-кий, к весне 1741 г. произведенный в полковники, вынужден был повторно обратиться к сибирскому губернатору с требованием «штап афицера и обер афицеров по крайней мере до пяти человек сюда прислать» 7. Пока же обязанности старшего офицера доверили исполнять капитану Енисейского гарнизонного пехотного полка Ф. Мамееву, прежде начальствовавшему в Чебаркуль-ской крепости, а после проведения смотра отправившемуся в Челябинскую крепость. Губернатор П. И. Бутурлин 26 марта 1741 г. распорядился удовлетворить требование Павлуцкого, после чего Сибирская гарнизонная канцелярия определила для отправки в Новоучрежденный пехотный батальон из Тобольского гарнизонного пехотного полка поручика О. Белевцова и прапорщика И. Шах-тарова, из Енисейского – поручика Е. Быкова и прапорщика М. Текутьева 8. Однако эти офицеры, судя по всему, и через полтора года все еще не прибыли к новому месту службы.
Кадровый состав и структура других сибирских гарнизонных частей в принципе почти не изменились в сравнении с предыдущим десятилетием. Поскольку мы ранее уже касались этих вопросов [Дмитриев, 2008а; 2009], перейдем теперь к характеристике положения армейских полевых полков, направленных в Сибирь из европейской части страны в 1744–1745 гг. Согласно указу императрицы Елизаветы, на сибирскую службу переводились 5 полков: Ширван-ский и Нотебургский пехотные, Луцкий, Олонецкий и Вологодский драгунские. Кратко остановимся на предшествующей истории этих воинских частей.
Упомянутые выше драгунские полки вели свое существование с 1705–1707 гг., так что успели принять активное участие в Северной войне (1700–1721). Вологодский драгунский полк был сформирован в Белгороде полковником Ф. С. Хрущовым в 1705 г. [Рабинович, 1977. С. 93; Татарников, 2008. С. 260], Луцкий – в 1706 г. в Копорье из «шляхетства» и казаков Новгородского разряда подполковником князем Т. Путятиным [Рабинович, 1977. С. 94; Татарников, 2008. С. 275], Олонецкий в 1707 г. был переформирован из рейтарского полка, набранного еще в 1700 г. в Смоленске [Рабинович, 1977. С. 81, 97; Татарников, 2008. С. 288]. Пехотные же полки были сформированы позднее, в середине 1720-х гг., в составе так называемого Низового корпуса, предназначенного для оккупации ряда прикаспийских провинций Персии. Ширван-ский пехотный полк возник в 1724 г. [Бескровный, 1958. С. 41; Рабинович, 1977. С. 73], Нотебургский – в 1726 г., когда сначала именовался Ленкоранским. Новое название он получил уже в 1732 г. [Вискова-тов, 1899. С. 104].
До перевода в Сибирь все эти полки дислоцировались в разных губерниях Европейской России. В ходе русско-турецкой войны 1735–1739 гг. они находились в непосредственной близости к театру боевых действий: Луцкий и Олонецкий драгунские полки – на Украине, наряду с другими частями составляя резерв для армии фельдмаршала Б.-Х. Миниха, Ширванский – в захваченном Азове, Нотебургский – в недавно основанной при устье Дона крепости Св. Анны 9. Непосредственно же перед отправкой на восток в 1744 г. они дислоцировались: оба пехотных полка – в крепости Св. Анны, Луцкий и Вологодский драгунские полки – в Казанской губернии, Олонецкий – в Нижегородской губернии [Кузнецов, 1891. С. 3]. Не имея возможности подробно останавливаться на каждом из интересующих нас соединений, ограничимся здесь данными по одному из пехотных полков, тем более, что некоторые сведения об офицерском корпусе драгунских полков уже содержатся в работе Г. Ф. Быкони [1985. С. 199, 200].
Мы располагаем именными списками личного состава Нотебургского пехотного полка за 1748 г. 10 По ним можно вполне точно судить о внутренней организации данных воинских частей, равно как и о кадровом составе рядовых и офицеров, а также оценить произошедшие за период 1740-х гг. некоторые изменения. Во-первых, незадолго до этого была увеличена численность всех полевых пехотных полков: если ранее они состояли только из 2 батальонов по 4 роты в каждом (плюс одна гренадерская рота на полк), то теперь к ним добавили еще и третий батальон. Кстати сказать, в историографии заметна некоторая путаница по данному вопросу. Так, русский военный историк начала XX в. Д. Ф. Масловский утверждал, что «к 3-батальонному составу всей пехоты мы перешли в 1747 г.», и в дальнейшем каждый пехотный полк «был в составе 3 батальонов 4-ротного состава, имея две грена- дерские роты на полк» [Масловский, 1883. С. 129; 1891. С. 225, 227; Столетие…, 1902. Т. 4. Введение. С. 167]. Л. Г. Бескровный относил время проведения этой реорганизации к 1743 г., соглашаясь при этом, что «первое время 1-й и 2-й батальоны имели по одной гренадерской роте» [Бескровный, 1958. С. 63]. Однако ближе к истине, на наш взгляд, утверждение современных исследователей, так характеризующих произошедшие изменения: «При Елизавете Петровне численность полков была увеличена: в 1747 г. к двум существовавшим был добавлен третий батальон из 4 мушкетерских рот», а уже затем, в 1750-х гг. «количество гренадерских рот в полку возросло до трех; батальон включал в себя теперь 1 гренадерскую и 4 мушкетерских роты» [Леонов, Ульянов, 1995. С. 69, 70]. Действительно, из книги состоявшегося 12 февраля 1748 г. инспекторского смотра Нотебургского пехотного полка явствует, что насчитывал он в тот момент 13 рот – 12 мушкетерских и только одна (а не две!) гренадерская.
Штатная численность рядовых в полку должна была составлять 1 928 чел.: 200 гренадер и по 144 мушкетера на роту [Масловский, 1891. С. 225; Столетие…, 1902. Т. 4. Введение. С. 167; Бескровный, 1958. С. 63]. Однако в Нотебургском полку оказались налицо лишь 150 гренадер и 1 676 мушкетеров, всего 1 826 чел. Причем недоукомплектованными оказались именно 4 новых роты в составе 3-го батальона. Так, в 9-й роте числились 134 чел., в 10-й и 11-й – по 132, в 12-й – 128. Эта ситуация наглядно иллюстрирует, зачем после проведения рекрутского набора в 1747 г. как раз в связи с решением «армию умножить на 50 тыс. чел.» (давшего, правда, только 44 тыс. чел.) понадобился еще и рекрутский набор 1748 г. (давший 33 тыс. чел.) [Столетие…, 1902. Т. 4. Ч. 1. Кн. 1. Отд. 1. Приложения 11. С. 102, 103; Бескровный, 1958. С. 36]. Что касается происхождения и времени поступления в полк рядовых солдат, здесь картина выглядит следующим образом.
Гренадерская и 8 мушкетерских рот полка были укомплектованы рекрутами, взятыми в основном из крестьян нескольких губерний европейской части страны: Московской, Казанской, Нижегородской, Воронежской, Белгородской. К моменту пере- дислокации в Сибирь среди солдат можно было встретить как ветеранов персидских походов, начавших службу еще со второй половины 1720-х гг., так и молодых новобранцев, поступивших в полк уже в начале 1740-х гг. Весьма интересны данные о том, когда и кем пополнялся Нотебургский полк, будучи расквартированным в Сибири. Так, в 1746 г. на службу поступили 206 чел., из которых подавляющее большинство (197 чел.) происходили из крестьян Казанской губернии. Это пополнение было равномерно распределено между 8 мушкетерскими ротами.
А вот уже в 1747 г. мы наблюдаем совсем иную ситуацию. Всего ряды полка пополнили 667 чел., из них 172 чел. были определены в уже существовавшие 9 рот, а 495 чел. как раз и составили 4 вновь формируемые мушкетерские роты. При этом значительная часть новобранцев, как явствует из документов, принадлежали к местным уроженцам: 416 чел. происходили из Сибирской губернии, а еще 279 – из Казанской. Причем последние были все приписаны к новоучрежденным ротам (с 9-й по 12-ю), за исключением 11 гренадер, тогда как из сибиряков 161 чел. был определен в прежние 9 рот, а 255 – в 4 новые. Из упомянутых 161 чел. почти все были выходцами из крестьян Тобольска или слобод в границах Ялуторовского и Краснослободского дистриктов (исключение составили опять-таки 13 гренадер – уроженцы Томска, Енисейска и Кузнецка), а вот среди тех 255 рядовых, которые были взяты в 3-й батальон, мы наблюдаем гораздо более пеструю картину. Здесь можно обнаружить жителей многих сибирских городов: Тобольска, Тюмени, Тары, Туринска, Томска, Пелыма, Верхотурья, Нарыма, Кузнецка, Енисейска, Красноярска.
Видимо, в 1747 г. повторилась та же процедура, что имела место в конце 1730-х гг. при наборах в Новоучрежденные драгунский полк и пехотный батальон, охвативших почти всю территорию Сибири, с той разницей, что тогда укомплектовать новые части стремились представителями служилого сословия (прежде всего, казаками), а теперь брали крестьян, посадских, ямщиков и «разночинцев». Еще 43 чел. были взяты на службу в 1748 г.: 12 чел. определили в 1-й и 2-й батальоны, 31 – в 3-й батальон. На момент проведения смотра оказались налицо «при полку» 1 028 рядовых, не считая 526 чел., числившихся в 3-м батальоне, остальные находились либо в составе контингента, несшего гарнизонную службу в Тобольске, либо в различных «командированиях», например, в Москве «для приему амуниции».
А что представлял собой офицерский корпус полка? По именным спискам на службе в 1748 г. числились 4 штаб-офицеров и 25 обер-офицеров 12. Последних, как мы сразу видим, явно не хватало. Их было всего чуть менее половины от положенного по штату числа обер-офицеров для полка в составе 13 рот (52 чел.). Более того, даже из этих 25 чел. налицо оказались далеко не все. Относительно 6 офицеров в документах сказано: «Со определения в полк не явился, и где обретаетца, неизвестно», а секунд-майор М. Юшков и капитан Я. Германтов находились «в отпуску в доме». Сроки их отпусков закончились уже несколько лет назад, однако к новому месту службы своего полка эти офицеры, видимо, решили не ехать, посчитав перевод в Сибирь неприемлемым для себя. Не способствовала наведению порядка в рядах полка также смерть его командира, полковника И.-В. Фока, умершего в конце прошлого 1747 г. Обязанности командира временно возложили на подполковника И. Су-хатина, который, однако, еще с 1744 г. находился в отлучке – «в Воронежской губернии у ревизии мужеска полу душ». Указом Военной коллегии ему было велено явиться к своему полку, но для этого, конечно, должны были потребоваться еще минимум несколько месяцев. Так что в начале 1748 г. обязанности старшего штаб-офицера исполнял, видимо, премьер-майор Д. Ошанин, а после формирования в полку 3-го батальона командующий всей группировкой армейских полков Сибири генерал-майор Х. Кин-дерман счел необходимым произвести в секунд-майоры капитана С. Матякина, сделав его батальонным командиром. Кстати, на все 4 роты этого батальона в полку приходились лишь 3 капитана, а все чины поручиков, подпоручиков и прапорщиков оставались вакантными.
С точки зрения сословного происхождения и материального статуса офицеры Но-тебургского полка, пожалуй, ничем не выделялись на фоне своих собратьев, оставшихся в Европейской России. К сожалению, мы располагаем соответствующими данными далеко не по всем обер-офицерам, но даже сохранившиеся сведения дают вполне ожидаемую картину 13. К «благородному российскому шляхетству» принадлежали 11 чел., в том числе двое братьев – представителей княжеского рода Девлет-Киндеевых (оба в чине подпоручиков); сюда же можно причислить и четверых иностранцев. Среди последних: капитан И. Торлин (сын офицера-иноземца из Астрахани), прапорщик гренадерской роты Г. Паданский («польской нации дворянин»), подпоручики П. Лангин (уроженец Бранденбурга) и К. Фразин (сын капитана-лифляндца). Тех, кто выслужились из тяглых сословий, насчитывалось 5 чел.: капитан Г. Беспалов (солдатский сын из Нарвы), поручики Ф. Рязанов (москвич, из дворовых людей генерал-фельдмаршала князя В. В. Долгорукова), П. Турчанинов (сын архангельского крестьянина), И. Воронин (солдатский сын из Москвы), прапорщик Г. Дмитриев (сын подьячего из Сызрани). Уроженцев Сибири среди них не было вообще, да и в унтер-офицерских чинах мы обнаружили только двоих сибиряков, жителей Тобольска: сержанта 6-й роты С. Дергачева (из казачьих детей) и подпрапорщика 12-й роты А. Копь-ева («из дворянских недорослей»). Аналогичная ситуация, по данным Г. Ф. Быкони, наблюдалась и в упомянутых выше драгунских полках [Быконя, 1985. С. 199, 200]. Возраст практически всех обер-офицеров колебался от 25 до 45 лет, зато штаб-офицеры были уже пожилыми людьми. Так, подполковнику Сухатину было 57 лет, пре-мьер-майору Ошанину – 54 года, а недавно произведенному секунд-майору Матякину и вовсе – 60 лет. Сроки их службы уже превышали предел в 25 лет, установленный для дворян манифестом императрицы Анны Иоанновны (1736 г.).
Значительная часть офицеров полка или сами были помещиками, владельцами крепостных крестьян, или же таковыми оказывались их ближайшие родственники. Так, родители упоминавшихся братьев князей Девлет-Киндеевых владели 250 душами крестьян м. п. У большинства же их сослуживцев было лишь несколько десятков, иногда – чуть менее сотни душ крепостных м. п. Даже штаб-офицеров нельзя в этом смысле назвать состоятельными владельцами. У подполковника Сухатина было
68 душ м. п. в Мценском уезде, у премьер-майора Ошанина – 27 душ м. п. в Суздальском уезде. Капитан гренадерской роты И. Иевлев имел 75 душ м. п. в Алексинском уезде Московской губернии. Были среди них и те, у кого вообще не было поместий, или же они не могли распоряжаться ими. Скажем, относительно капитана М. Адинова в документах стояла формулировка «крестьян мужеска полу душ не имеет», а капитан Ф. Едреновский, чьи владения располагались в окрестностях г. Шуи, хоть и имел 22 души м. п., но они уже были заложены в казну. Словом, вряд ли армейская служба приносила русским дворянам значительную выгоду или позволяла поддерживать в надлежащем состоянии собственные поместья, если только они не имели счастья принадлежать к знатным и богатым семействам. Поэтому, скажем, подпоручик О. Шарша-вин, начавший военную карьеру еще в 1721 г., вынужден был и теперь оставаться на службе – имея всего 13 душ крепостных м. п., трудно было надеяться на благополучную жизнь в отставке. А вот, например, служившие в унтер-офицерских чинах С. Степанов (каптенармус) и братья С. и М. Повало-Швейковские (сержанты) могли не беспокоиться о своем будущем: у матери первого было 200 душ м. п. в Костромском уезде, у отца вторых, польского шляхтича из Смоленской губернии – 898 душ м. п.
Итак, на протяжении 1740-х гг. состав и структура воинских частей, как полевых, так и гарнизонных, дислоцированных на территории Сибири, подвергались некоторым изменениям. Часть из них шла в общем русле мер центральной власти, нацеленных на перестройку армии, другие же были связаны со спецификой обстановки и условий службы в восточной части империи. Конечно, в большей степени эта специфика сказывалась на гарнизонных полках, но и полевые соединения, переведенные сюда в 1745 г., неизбежно испытывали на себе ее воздействие. В дальнейшем мы планируем проследить эволюцию кадрового состава и принципов внутренней организации армейских частей, расквартированных в Сибири, уже на материалах следующего десятилетия (1750-е гг.), дабы на этом примере получить возможно более полную картину того, что представляла собой русская армия к началу эпохи Екатерины Великой, когда она снова подвергнется кардинальной перестройке.
PERSONNEL AND STRUCTURE OF RUSSIAN ARMY’S FIELD AND GARRISON REGIMENTS IN SIBERIA IN THE MIDDLE OF 18th CENTURY (1740s)