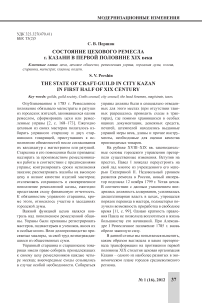Состояние цехового ремесла г. Казани в первой половине XIX века
Автор: Першин Сергей Викторович
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: Модернизационные изменения
Статья в выпуске: 1 (16), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется процесс трансформации структуры ремесленной организации г. Казани в первой половине XIX в., выявляются факторы, определившие характер и направленность этих изменений; исследуются финансовые основы цехов, взаимодействие местной власти и ремесленного общества
Цехи, цеховое общество, ремесленная управа, городская дума, голова, старшина, магистра, гласные, подати
Короткий адрес: https://sciup.org/14723614
IDR: 14723614 | УДК: 323.327(470.41)
Текст научной статьи Состояние цехового ремесла г. Казани в первой половине XIX века
Опубликованное в 1785 г. Ремесленное положение обязывало магистраты и ратуши из городских жителей, занимавшихся одним ремеслом, сформировать цехи или ремесленные управы [2, c. 168–173]. Ежегодно цеховым из своих мастеров полагалось избирать управного старшину и двух старшинских товарищей, приступавших к исполнению обязанностей после согласования их кандидатур с магистратом или ратушей. Старшина и его помощники были призваны: надзирать за производством ремесленниками работы в соответствии с предписаниями управы; контролировать сроки исполнения заказов; рассматривать жалобы на высокую цену и низкое качество изделий мастеров; отслеживать сохранность и своевременное пополнение ремесленной казны, ежегодно представляя сходу финансовую отчетность. К обязанностям управного старшины, кроме этого, относилось участие в заседаниях городской думы.
Важной функцией цехов являлся контроль над пополнением ремесленной общины. Управы были призваны регистрировать мастеров, подмастерьев и учеников, внося их в особые книги. Вели делопроизводство присяжные маклеры, за свой труд вознаграждавшиеся из общественных сумм.
Управный старшина и старшинские товарищи имели право собирать принадлежащих к своему цеху ремесленников каждые четыре месяца; внеочередные сходы созывались в случае особой необходимости. Собираться управы должны были в специально отведенных для этого местах (при отсутствии таковых разрешалось проводить сходы в трактирах), где помимо хранившихся в особых ящиках документации, денежных средств, печатей, штемпелей находились выданные управой меры веса, длины и прочие инструменты, необходимые для оценки качества производимых товаров.
На рубеже XVIII–XIX вв. законодательные основы городского управления претерпели существенные изменения. Вступив на престол, Павел I пожелал переустроить на свой лад многое из учрежденного его матерью Екатериной II. Недовольный уровнем развития ремесла в России, новый император подписал 12 ноября 1799 г. Устав цехов. В соответствии с данным узаконением внедрялись должность алдерманов, усиливалась дисциплинарная власть в цехах, упрощался порядок перевода в мастера, подмастерья получили возможность приработка в свободное время [11, c. 99]. Однако краткость правления Павла не позволила воплотиться в жизнь большинству его начинаний. При Александре I Ремесленное положение 1785 г. вновь обрело законную силу.
В данной статье мы попытаемся выяснить, каким образом выглядела и какие претерпевала трансформации на протяжении первой половины XIX столетия цеховая организация Казани – одного из наиболее развитых в экономическом плане городов средневолжского региона.
В первые десятилетия XIX в. структура цехового ремесла в Казани, как и в других губернских центрах поволжского региона, соответствовала положению 1785 г. [11, c. 180, 186, 193]. Социальные ресурсы и уровень развития ремесленного производства позволили местной власти сформировать в соответствии с узаконениями цехи и управы, однако до их деятельности, как свидетельствуют документы, ни городскому, ни губернскому начальству дела не было.
Например, среди сведений, подготовленных по поручению начальства Казанской думой в 1811 г. для сенатской проверки, нами обнаружено лишь упоминание о количестве цехов и ремесленников [4, л. 7]. К пяти управам – портной, кузнечной, сапожной, хлебной и столярной – были приписаны 182 мастера, 102 подмастерья, 113 учеников. Если верить «Ведомости о числе граждан в губернском городе Казане», то из 988 цеховых только 397 чел. имели отношение к ремесленной организации.
Отвечая в 1823 г. на запрос гражданского губернатора, присутствие казанского магистрата было вынуждено признать, что ничего не знает о структуре и финансах цехов. 3 июня 1823 г. Казанская дума «уведомила магистрат сей что в городской доход со здешних цехов ни с котораго и ни сколько не поступает, да и сколько существует цехов или ремесленных управ сведения в думе нет» [5, л. 1].
По распоряжению магистрата общественники собрали для губернского начальства информацию о казанских цехах. Ремесленным головой в то время состоял Григорий Иванов Бровкин, управными старшинами являлись: хлебной – Гаврила Иванов Юдиков, портной – Михайла Иванов Бежболдинской, кузнечной – Гаврила Леонтьев Кузнечиков, сапожной – Тит Андреев Шилов, столярной – Андрей Федоров Шубников, серебряной – Петр Васильев Рукавишников [5, л. 1 об.].
Судя по переданным Г. И. Бровкиным сведениям, без вмешательства городского и губернского начальства дела цехов обстояли вполне сносно. Всего по окладу цеховых числились 710 душ. Каждая управа распо- лагала собственными средствами (табл. 1), ответственность за которые несли старшины. Дефицитным был бюджет лишь одной, самой малочисленной ячейки ремесленной организации – серебряной управы. По итогам 1821 г., дабы «свести концы с концами», старшине этой управы П. В. Рукавишникову пришлось даже вложить собственные деньги.
Интересно, а на какие цели шли собираемые с ремесленников средства? Для того чтобы ответить на этот вопрос, процитируем ведомость сапожной управы, доставленную ремесленным головой в магистрат. Расходы сапожников в 1821 г. составили 253 руб. 23 ½ коп., в том числе было употреблено: «на покупку книг 2 руб. 50 коп. бумаги 2 руб. снуру 7 коп. на промен целковаго (серебряная монета. – С. П. ) 30 коп. за служение молебна с акафистом (церковный гимн. – С. П. ) священнику 2 руб. восковых свеч на 2 руб. прощено ремесленникам Ивану Муравьеву и Семену Стрелкову должных управе 100 руб. выдано бывшим в 1820 г. старшине Филипу Журалевскому и его товарищу Гавриле Гурьянову за службу жалованья 70 руб. священнику за привод к присяге балатирую-щих людей 2 руб. на покупку чернил 2 руб. выдано в жалованье маклеру Викторинско-му и сторожам 40 руб. 66 ½ коп. промену на 13 целковых 3 руб. 90 коп. на управной расход 25 руб. 80 коп.» [5, л. 2].
Помимо жалованья выборным и разного рода организационных нужд, часть финансов казанских ремесленников расходовалась на содержание особого помещения – «управной горницы» [5, л. 1].
Обособленное существование цеховых управ продолжалось предположительно до середины – второй половины 1820-х гг. Ситуация с регламентацией ремесленной деятельности начала меняться после того, как правительство приступило к наведению порядка в податном хозяйстве.
14 ноября 1824 г. было утверждено подготовленное министром финансов Е. Ф. Кан-криным «Дополнительное постановление об устройстве гильдий». Суть узаконения, направленного, по мнению советских исто-
Таблица 1
Доходы и расходы цеховых управ г. Казани в 1821 г., руб., коп. [5, л. 1 об.–3]
|
Управа |
Поступило в приход |
Израсходовано |
К 1822 г. в остатке |
||
|
остаток от прошлых лет |
в 1821 г. |
всего |
|||
|
Хлебная |
909 руб. 50 коп. |
2 547 руб. 75 коп.* |
3 457 руб. 25 коп. |
491 руб. 18 коп. |
2 966 руб. 7 коп. |
|
Сапожная |
584 руб. 87 1/2 коп. |
314 руб. |
898 руб. 87 1/2 коп. |
253 руб. 23 1/2 коп. |
645 руб. 64 коп. |
|
Портная |
570 руб. 15 коп. |
650 руб. |
1 220 руб. 15 коп. |
130 руб. 40 коп. |
1 089 руб. 75 коп. |
|
Столярная |
250 руб. 60 1/2 коп. |
269 руб. |
519 руб. 60 1/2 коп |
179 руб. 88 1/2 коп. |
339 руб. 72 коп. |
|
Кузнечная |
26 руб. 58 1/2 коп. |
188 руб. |
214 руб. 58 1/2 коп. |
72 руб. 1 1/2 коп. |
142 руб. 57 коп. |
|
Серебряная |
25 руб. 94 коп. |
65 руб. |
90 руб. 94 коп. |
107 руб.** |
– |
* В том числе возвращено 1 404 руб. долга.
** В связи с превышением расходов над доходами старшина П. Рукавишников потратил собственные средства в размере 16 руб. 89 коп.
риков, на укрепление позиций средней буржуазии в торгово-промышленной деятельности, известна: гильдейская подать вместо процентного сбора с объявляемых капиталов преобразовывалась в неизменный оклад; в торговое обложение вводилось новое начало – билетный сбор с излишнего против положенного числа лавок; мещане, занимавшиеся торговлей, были обязаны приобретать свидетельства (прежде они освобождались от промыслового обложения). По сведениям П. Г. Рындзюнского, вследствие протеста горожан уже в 1825–1827 гг. правительство было вынуждено отменить многие наиболее существенные положения гильдейской реформы [12, c. 151–152].
Так или иначе, но в Казани именно в те годы активизировалось вовлечение городских и пришлых ремесленников в цеховые организации. 19 августа 1827 г. старшины портной, столярной, сапожной, кузнечной и серебряной управ рапортовали думе о том, что, несмотря на их многочисленные обращения, казанские и иногородние мастера приписаться к управам с имевшимися у них работниками и учениками не пожелали. Старшины обратились к думе с ходатайством понудить не вступивших в цехи и имевших задолженности ремесленников «чрез кого следует»; до получения соответствующих разрешений они предлагали запретить деятельность незаконных заведений [6, л. 4 – 4 об.].
Рассматривая прошение цеховых, гласные думы руководствовались Положением о доходах и расходах г. Казани, несколько пунктов которого касались порядка взимания с ремесленников податей: «37. Мастеровые временно приписывающиеся к учрежденным в Казани цеховым управам должны платить каждогодно мастер 12 руб., подмастерье 9 руб., работник 6 руб., а ученик 3 руб. За всех сих ответствует платежем мастер или хозяин а управа принимая оныя снабжает его по числу людей свидетельством им вносимой суммы половину оставляя временной казне другую представляя при отчете в думу для присоединения к градским доходам. 38. Дворовые люди в домах господ своих жительствующие и для собственнаго их употребления занимающиеся работою от сего платежа изъемлются. 39. Вообще никто из мастеровых не заплатив… не имеет права выставить… ремесла своего и за нарушение правил во всяком случае подвергаются платеж в двое в пользу городских доходов» [6, л. 4 об.].
2 сентября 1827 г. Казанская дума приказала старшинам: всех ремесленников, не имеющих на производство работ разрешений, а также недобросовестных плательщиков внести в особый список, в котором должны были поименно указываться место проживания, количество подмастерьев и учеников, род занятий [6, л. 4 об.]. 15 сентября 1827 г. дума постановила рапорт старшин с приложенным к нему регистром передать казанской полиции с просьбой принять соответствующие меры по защите интересов цехов [6, л. 5].
Ремесленники начали сдавать полагавшиеся с них средства лишь после того, как в дело вмешалась городская полиция. 3 апреля 1829 г. казанская полиция уведомила думу о том, что с проживавших в ведомстве первой части города мастеровых, упомянутых в регистре от 15 сентября 1827 г., положенные деньги были затребованы.
9 июня 1836 г. Казанское губернское правление постановило создать печную управу с причислением к ней печников, каменщиков и штукатуров. Круг лиц, с которых следовало взимать деньги установленным порядком в городскую и ремесленную казну, таким образом расширялся.
По получении предписания правления ремесленники под руководством головы Кожевникова должны были избрать еще одного старшину. Последнему приказывалось незамедлительно заняться составлением списка всех казанских печников, каменщиков и штукатуров. Как само формирование новой структуры, так и срочность исполнения распоряжения начальства были вызваны необходимостью взыскания акцизов в разгар строительного сезона [7, л. 1 – 1 об.].
Распоряжением думы от 20 июня 1836 г. ремесленники оповещались о разрешении губернского начальства взимать средства в пользу управы и в доход города с временно занимавшихся штукатурной и печной работами на основании § 37 Высочайше конфирмованного Положения о доходах и расходах г. Казани.
Стараниями нового старшины Николая Иванова Рожина опись казанцев, которых следовало приписать к печной управе, была составлена. Всего в нее был внесен 21 мастер, в том числе 7 печников, 6 штукатуров, 4 каменщика. Несмотря на многократные обращения Рожина, внести сбор за прошедшую половину года все упомянутые в списке мастера отказывались. Старшина был вынужден прибегнуть к помощи ремесленного головы, а тот в свою очередь – просить думу «проживающих в городе Казане печников, каменщиков и щекотуров, чрез кого следует к платежу в ремесленную управу и в доход города понудить» [7, л. 3].
Еще с большим трудом новшества внедрялись среди работавших в Казани иногородних ремесленников. 6 июля 1836 г. в городскую думу были вызваны 10 подрядчиков каменных и штукатурных работ, прибывших из Нижегородской, Ярославской и Костромской губерний. Городское начальство оповестило их об образовании печной управы и обязательности выплат в пользу местных учреждений [7, л. 7].
Группа подрядчиков и мастеров требование думы вносить в доход управы деньги наравне с казанскими ремесленниками сочла противозаконным. Занимавшиеся строительными работами выходцы из Нижегородской и Костромской губерний обратились к военному губернатору с просьбой рассмотреть справедливость данного сбора, однако губернское правление распоряжение казанского городового магистрата об отчислении в пользу ремесленного и городского обществ нашло правильным [7, л. 27].
Не поддержанные губернской администрацией пришлые ремесленники, мягко говоря, не особо спешили расставаться с заработанными деньгами. 22 октября 1836 г. Н. И. Рожин сообщил начальству о том, что долг 19 мастеров, 8 подмастерьев, 342 работников и 129 учеников (498 чел.) достиг 1 321 руб. 50 коп., внесены же были всего 48 руб. [7, л. 22–25] Лишь с помощью полиции к началу 1837 г. старшине печной управы удалось собрать с временно записанных мастеров, работников и учеников 1 500 руб. [7, л. 33]
Сложно сказать, многим ли иногородним мастерам удалось по окончании работ избежать обложения, покинув Казань. Судя по вниманию губернского начальства к пополнению казны в то время, первый опыт деятельности печной управы вряд ли оценивался администрацией положительно. 11 марта 1837 г. военный губернатор распорядился:
«Вследствие рапорта сей думы о деньгах, считающихся в недоимке в пользу города и печной управы с мастеровых и их подмастерьев, о взыскании коих дума отнеслась в октябре месяце 1836 года в казанскую градскую полицию… я предписываю на будущее время во избежание затруднений, встречающихся при взыскании таковой недоимки, взыскивать… деньги вперед при выдаче билетов на производство мастерства» [7, л. 40].
Анализ состояния исследуемой цеховой конторы в конце 1830-х гг. позволяет предположить, что даже в таком крупном торговопромышленном центре, как Казань, ремесленники не особо стремились записаться в цеховые. В 1837 г. насчитывалось 924 казанских цеховых. В два следующих года прирост цехового общества составлял всего по 1 чел. мужского пола [8, л. 6 – 6 об.]. В течение 1838 г. членами цехового общества стали 4 ясашных крестьянина Казанского уезда, 2 вольноотпущенника, 3 ясашных крестьянина Свияжского уезда; убыли из цеховых в казанские гильдии 8 чел. [8, л. 6 – 6 об.].
Выплаты в пользу ремесленного общества в 1838 г. включали в себя: 44 ½ коп. с души на земскую повинность, по 21 коп. – на вспоможение земского капитала, по 30 коп. – на водные и сухопутные сообщения; кроме того, на поставку рекрутов, продовольствие, содержание цеховой конторы и прочие общественные повинности ремесленники сдавали еще по 15 коп. с души. Приобретение свечей и канцелярских товаров, плата служащим при цеховой конторе (письмоводителю и двоим рассыльным), а также вознаграждение священников за труды в 1838 г. обошлись цеховым в 1 274 руб. 59 коп. (51,7 % всех земских повинностей) [8, л. 9–10].
Численность иногородних ремесленников значительно превышала количество казанских мастеровых людей. 29 декабря 1837 г. выполнявший задание губернского начальства ремесленный голова А. Паяльщиков подал выписку, в которой сообщал о 1 803 иногородних ремесленниках (мастерах, работниках и учениках), находившихся на тот момент в Казани [1, с. 27].
Что же заставляло пришлых ремесленников саботировать распоряжения местного начальства? Как нам представляется, такого рода поведение было обосновано стремлением отходников любыми путями минимизировать собственные расходы, в том числе воспользоваться несогласованностью действий административных и полицейских органов. Тем более, что в большинстве городов Поволжья выплаты в пользу цехов как дополнение к городскому обложению и казенным податям в то время еще не практиковались.
В том же году стремление насильно легализованных мастеров к справедливому обложению податями и повинностями (вполне возможно, также и желание ремесленников, осознавших первые успехи цехов, укрепить их) подвигло казанцев к дальнейшему усложнению ремесленной организации. 31 марта цеховые на собрании постановили по аналогии с печниками и каменщиками обложить новым сбором плотников и пильщиков [10, л. 2].
Рассмотрев приговор ремесленников, 27 мая 1838 г. гласные поддержали их ходатайство: «Поелику членам думы известно, что многие казанские и иногородние подрядчики содержат у себя значительные артели плотников, сделали себе из того постоянный промысел, не платя за сие ни градским, ни ремесленным доходам никакого акциза. А как казанские цехи приговором предполагают учредить плотничную управу… каковое учреждение здесь в Казане плотничной управы, для увеличения градских и управных доходов, градская дума признает необходимо нужным; почему… войти с представлением в казанское губернское правление» [10, л. 1 об.].
Однако губернское правление не разделило мнения общественников и не особо спешило с одобрением постановления цеховых. 22 июня 1839 г. ремесленный голова Паяльщиков обратился к думе с просьбой повторно задать начальству этот вопрос [10, л. 5 – 5 об.]. Не дождавшись соответствующего распоряжения, 18 марта 1840 г. думцы вновь напомнили о своем прошении [10, л. 7].
Медлительность администрации была связана с тем, что она исходила из необхо- димости учитывать не только мнение выборных, стремившихся пополнить цеховые и городские доходы, но и важность защиты интересов основной массы жителей Казани. В отличие от каменщиков многие плотники, минуя посредников, поодиночке или небольшими артелями исполняли заказы обывателей, плата за которые была относительно небольшой. Дополнительные сборы могли повысить стоимость предоставляемых населению услуг и в итоге – негативно сказаться на внешнем виде губернского центра.
30 марта 1840 г. правление наконец-то поручило ремесленному голове Золотову заняться организацией плотничной управы [10, л. 10]. В тот же день администрация указала думе: «Чтобы упомянутому взысканию подвергаемы были только подрядчики плотнич-наго и пильнаго мастерства с своими подмастерьями и работниками, изключая тех рабочего класса людей, кои для прокормления себя нанимаются порознь поденно и получают плату от самих хозяев» [10, л. 9].
2 апреля 1840 г. цеховые приговорили избрать на место плотничного старшины происходившего из вольноотпущенников Павла Павлова Зуева. Цеховое общество ручалось перед думой за предложенную кандидатуру, охарактеризовав П. П. Зуева как честного человека, с давних пор проживавшего в Казани, имевшего в городе недвижимость, способного исполнять возложенные на него обязанности [10, л. 13].
Таким образом, к началу 1840-х гг. казанские цехи охватывали все основные сферы ремесленного производства (или, по крайней мере, формально имели к ним отношение).
Закономерным этапом в развитии цеховой организации стало обращение ее представителей к проблеме соответствия структуры занятости городских жителей их сословной принадлежности.
Состав цехов обсуждался руководителями цехов на состоявшемся в июне 1843 г. собрании. Голова и старшины, в частности, рассуждали: «Роды ремесел подразделяются на общества под названием цехов. Каждый цех установляется из людей, производящих одинакое ремесло [270 статья ремесленного постановления тома XI свода Законов]. Промысел ремесленных цехов определен в 278 статье оных постановлений тома XI свода Законов. И сим подтверждается смысл, что всякий принадлежащий к цеховому обществу должен быть производящим ремесла. Это равно требуется от цехов называемых вечными и временными, не название только цеховыми, самое производство ремесла или рукоделия есть основание для причисления к обществу цехов [351 ст. ремесленнаго постановления тома XI свода Законов] …Не ремесленники или не производящие ни ремесел, ни рукоделий, не суть цеховые» [10, л. 416 – 416 об.]. Выборные отметили, что среди казанцев встречается много таких, которые только числятся цеховыми, но на самом деле не имели к ремеслам никакого отношения. Часть приписанных к казанским цехам вели происхождение от вечно-цеховых, некоторые, не проходя обучения мастерству, перешли в цехи из других сословий и состояний.
На июньском собрании указывалось на последствия причисления к ремесленному обществу «мнимых» цеховых: «Их большое число, и они вмешиваясь на сходках в суждение ремесленников, большинством своим отнимают средства правильных распоряжений. Самое употребление ремесленной казны по сей причине бывает не для ремесленников и других по ремеслам нужд, для чего и составляется она; но для самих тех только называемых вечными цеховыми, а в самом деле вовсе не цеховых» [10, л. 416 – 416 об.].
Данные, приводимые К. А. Пажитновым, относящиеся, скорее всего, к началу 1860-х гг., подтверждают обоснованность заявления казанских ремесленников о несоответствии статуса вечно-цеховых их профессиональной деятельности. В монографии К. А. Пажитнова «Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма» упоминается о том, что в Казани «из 3 575 лиц, числящихся ремесленниками, оказалось не более 50 вечно-цеховых, занимавшихся мастерством; остальные служили лакеями или занимались мелочной торговлей» [11, с. 126].
К. А. Пажитнов также писал в своей книге о том, что царское правительство отводило «главенствующую роль в управлении ремесленными делами ничтожной кучке вечноцеховых и отстраняя от этого управления основную массу ремесленного класса» [11, с. 126]. По мнению Пажитнова, устранение временно-цеховых, «составляющих подавляющее большинство членов ремесленного общества, от решающего участия в его делах, естественно, должно было отразиться отрицательным образом на практике органов ремесленного самоуправления: вместо того, чтобы служить интересам массы членов, они стали преследовать узко эгоистические, личные цели» [11, с. 126]. Не обнаружив в законодательстве XVIII – первой половины XIX в. упоминаний об ограничении прав цеховых, К. А. Пажитнов предположил: подобный порядок в условиях вырождения цехов установился на основе административной практики при попустительстве либо по прямому указанию МВД [11, с. 126].
В «Социальной истории России» Б. Н. Миронов делает аналогичный вывод о захвате власти вечно-цеховыми: «Только потомственные горожане-ремесленники, так называемые вечно-цеховые, на долю которых приходилось менее половины всех цеховых, обладали сословными правами и участвовали в самоуправлении. Временно-цеховые, т. е. ремесленники, принадлежавшие к другим социальным группам и временно приписанные к цеху ради получения разрешения заниматься ремеслом в городе, никакими корпоративными правами не пользовались, это был текучий элемент в составе цехов, затруднявший формирование крепкой общины среди ремесленников» [3, с. 497–498].
Выводам вышеупомянутых исследователей о бесправии временно-цеховых противоречит положение, принятое Казанской ремесленной управой в июне 1843 г. Для установления надлежащего порядка ремесленный голова по поручению общественности ходатайствовал перед магистратом [9, л. 418]: 1) оставить в подчинении ремесленной управы только горожан, действительно занимавшихся ремеслами; 2) так называемых вечно-цеховых, желавших стать ремесленниками, обязать записаться в цеховые книги; 3) «только таких цеховых постоянных или временных допускать к участию по делам управления ремеслами, устраняя от сего всех прочих, хотя называющихся цеховыми; но не принадлежащих ни к какому ремеслу, а самыя сходки ремесленных цехов и всякое по делам их действие дозволить иметь независимо от общества непринадлежащих к ремеслам цеховых в особом на счет ремесленной казны помещении»; 4) отменить поручение голове и старшинам собирать подати и отслеживать исполнение повинностей цеховыми, не имеющими никакого отношения к ремесленным заведениям.
Рассмотрев рапорт казанского городового магистрата, губернское правление 14 сентября 1843 г. приказало думе: в соответствии со ст. 270, 278 и 351 ремесленных постановлений т. 9 Свода законов сбор податей и повинностей с не имевших отношения к ремесленному труду горожан поручить избранным из их же числа старшинам [9, л. 420].
К середине XIX столетия Казанская ремесленная управа оставалась крупнейшей цеховой организацией на территории средневолжского региона. По данным Центрального статистического комитета, по численности ремесленников средневолжские губернии в 1858 г. расположились в следующем порядке: Казанская (5 878 чел.), Пензенская (5 326), Симбирская (3 498), Самарская (3 021 чел.) [11, с. 112–115].
В 1858 г. 3 294 мастера, подмастерья, работника и ученика официально были приписаны к восьми действовавшим в Казани цехам. Структура цехов с начала 1840-х гг. не изменилась (табл. 2).
По данным офицеров Генштаба, в 1857 г. в подчинении казанской управы состояло 73 % всех ремесленников губернии, причем пополнялись цехи в основном за счет сельской местности [1, с. 30]. Как среди работников (75 %), так и среди учеников (69 %) доминировали крестьяне; немногим меньше половины (44 %) крестьян было среди хозяев
Таблица 2
Ремесленники цехового общества г. Казани в 1855 г. [1, с. 28–30, 33]
|
Цех |
1855 г. |
||||
|
Мастера |
Подмастерья |
Работники |
Ученики |
Всего |
|
|
Хлебный |
67 |
18 |
145 |
63 |
293 |
|
Плотницкий |
60 |
– |
425 |
129 |
614 |
|
Печной |
39 |
– |
264 |
152 |
455 |
|
Кузнечный |
58 |
1 |
68 |
107 |
234 |
|
Столярный |
69 |
3 |
154 |
197 |
423 |
|
Портной |
119 |
13 |
303 |
333 |
768 |
|
Сапожный |
81 |
– |
107 |
149 |
337 |
|
Серебряный |
37 |
13 |
56 |
64 |
170 |
|
Итого |
530 |
48 |
1 522 |
1 194 |
3 294 |
мастерских. Почти ¾ работников нанималось на 1 год, остальные – на более короткие сроки. Ученики поступали к хозяевам по контрактам и жили на их полном содержании; по окончании срока обучения вместо платы они служили 1–2 года работниками у мастеров.
Определенный интерес представляют сведения «Материалов для географии и статистики России, собранных офицерами Генерального штаба», касающиеся ремесленных занятий потомков горожан: из каждых 100 хозяев-ремесленников насчитывалось только 29 мещан; относительная численность мещан-работников составила всего 14,4 %, мещан-учеников – 17,0 %. Как видим, ремесленные занятия были для казанцев менее привлекательны, нежели торговля, что послужило основной причиной низкого прироста численности ремесленной организации и пополнения ее в основном за счет бывших крестьян.
Подведем итоги нашего исследования.
В начале 1800-х гг. казанские цехи объединяли лишь некоторую часть занимавшихся ремеслом горожан и представляли собой вполне автономные от городских органов структуры. Вовлечение ремесленников в цехи активизировалось во второй половине 1820-х гг. Занимавшиеся торговлей мещане с того времени обязывались приобретать свидетельства, ремесленники вынуждались приписываться к цехам.
Причисление к цехам было возможно при условии вмешательства администрации – активизировать пополнение цехов и ремесленной казны удавалось в основном при помощи полиции. Насильно легализованные мастера на определенном этапе сами начали проявлять инициативы, способствовавшие развитию ремесленной управы: устанавливали оставшихся не вовлеченными в цеховую организацию мастеров и подмастерьев; ставили перед городскими властями вопрос о защите узкокорпоративных интересов.
В результате описанных процессов казанская ремесленная организация к середине XIX в. претерпела определенные количественные и качественные изменения (были созданы новые управы – печная и плотничная).
Список литературы Состояние цехового ремесла г. Казани в первой половине XIX века
- История Казани в документах и материалах. XIX век: Промышленность, торговля, финансы/под ред. И. К. Загидуллина. -Казань: Магариф, 2005. -720 с.
- Материалы по истории СССР для семинарских и практических занятий. Вып. 5: Социальный и сословный строй России во второй половине XVIII в.: учеб. пособие для вузов по специальности «История»/сост.: М. Т. Белявский, Л. Г. Кислягина. -М.: Высш. шк., 1989. -352 с.
- Миронов, Б. Н. Социальная история России периода Империи (XVIII -начало XX в.): генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства: в 2 т./Б. Н. Миронов. -СПб.: Дмитрий Буланин, 2000. -Т. 1. -548 с.
- НА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 75.
- НА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 402.
- НА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 615.
- НА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 1208.
- НА РТ. Ф. 377. Оп. 1. Д. 4.
- НА РТ. Ф. 377. Оп. 1. Д. 5.
- Пажитнов, К. А. Проблема ремесленных цехов в законодательстве русского абсолютизма/К. А. Пажитнов. -М.: Изд-во АН СССР, 1952. -208 с.
- Рындзюнский, П. Г. Городское гражданство дореформенной России/П. Г. Рындзюнский. -М.: Изд-во АН СССР, 1958. -560 с.