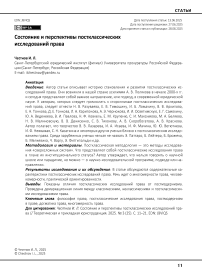Состояние и перспективы постклассических исследований права
Автор: Честнов И.Л.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 3 (25), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Автор статьи описывает историю становления и развития постклассических исследований права. Они возникли в нашей стране усилиями А. В. Полякова в начале 2000-х гг. и сегодня представляют собой важное направление, или подход, в современной юридической науке. К авторам, которых следует причислить к сторонникам постклассических исследований права, следует отнести Н. В. Разуваева, Е. В. Тимошину, И. Б. Ломакину, В. В. Архипова, Е. Н. Тонкова, Д. Е. Тонкова, Л. А. Харитонова, А. Э. Чернокова, И. И. Осветимскую, Е. Г. Самохину, Ю. А. Веденеева, В. И. Павлова, Н. Ф. Ковкель, Е. М. Крупеню, С. И. Максимова, М. А. Беляева, Н. В. Малиновскую, В. В. Денисенко, С. В. Тихонову, А. В. Скоробогатова, А. В. Краснова. Автор полагает, что творчество В. В. Лазарева, И. А. Исаева, И. Ф. Мачина, Ю. Ю. Ветютнева, И. Ф. Невважая, С. Н. Касаткина и некоторых других ученых близко к постклассическим исследованиям права. Среди зарубежных ученых нельзя не назвать Э. Паттаро, Б. Ляйтера, Б. Брожека, Б. Мелкевика, Ч. Варгу, Э. Фиттипальди и др. Методология и материалы. Постклассическая методология — это методы исследования «сверхсложных систем». Что представляют собой постклассические исследования права в плане их институционального статуса? Автор утверждает, что нельзя говорить о научной школе или парадигме, но можно — о научно-исследовательской программе, подходе или направлении. Результаты исследования и их обсуждение. В статье обсуждаются содержательные характеристики постклассических исследований права. Речь идет о многомерности права, человекомерности, практической ориентированности. Выводы. Показаны отличия постклассических исследований права от постмодернизма. Проведена демаркационная линия между классическими, неклассическими и постклассическими исследованиями права.
Философия права, постклассические исследования права, постмодернизм в праве, догматика права, многомерность права
Короткий адрес: https://sciup.org/14133891
IDR: 14133891
Текст научной статьи Состояние и перспективы постклассических исследований права
Постклассические (или постнеклассические) исследования права (далее — ПКИП) возникают в начале 2000-х гг. в нашей стране усилиями А. В. Полякова. Именно ему принадлежит пальма первенства не только в использовании этого термина, но и в глубокой, систематической разработке новой программы научных исследований правовой реальности. Затем к этому направлению, которое со временем превратилось в визитную карточку того, что многие именуют Петербургской школой права (имея в виду современное развитие неклассических идей Л. И. Петражицкого и его учеников в начале ХХ в.), примкнули и внесли свой вклад в ее развитие автор этих строк, Н. В. Разуваев, Е. В. Тимошина, чуть позже И. Б. Ломакина, В. В. Архипов, Е. Н. Тонков, Д. Е. Тонков, Л. А. Харитонов, А. Э. Черноков, И. И. Осветимская, Е. Г. Самохина и некоторые другие авторы из нашего города. Параллельно идеи, сформулированные А. В. Поляковым и коллегами, стали активно разрабатываться в других городах страны и на постсоветском пространстве. В этой связи нельзя не отметить исследования Ю. А. Веденеева, В. И. Павлова, Н. Ф. Ковкель, Е. М. Крупени,
С. И. Максимова, М. А. Беляева, Н. В. Малиновской, В. В. Денисенко, С. В. Тихоновой, А. В. Скоробогатова, А. В. Краснова. Полагаем, что творчество В. В. Лазарева, И. А. Исаева, И. Ф. Мачина, Ю. Ю. Ветютнева, И. Д. Невважая, С. Н. Касаткина и некоторых других ученых близко к ПКИП. Следует отметить, что историки права, такие как Д. А. Пашенцев и А. А. Дорская, смело взяли на вооружение постклассическую методологию применительно к историко-правовым штудиям. Очевидна близость постмодернистской или культуральной, конструктивистской криминологии и ПКИП1, а также исследований А. С. Александрова и его коллег в области уголовного процесса. Среди зарубежных ученых нельзя не назвать Э. Паттаро, В. Кравица, Г. Тойнбера, Б. Ляйтера, Б. Брожека, Б. Мелкевика, Ч. Варгу, Э. Фиттипальди и других, хотя термин «постклассическая юриспруденция» среди них пока не прижился.
Идеи ПКИП находят отражение в ежегодной Всероссийской научно-теоретической конференции «Постклассические исследования права» в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Университета прокуратуры Российской Федерации, которая продолжила традиции Спиридоновских чтений, проводимых автором статьи с коллегами с 2000 г. В 2025 г. прошла пятая конференция ПКИП, которая была посвящена перспективам правового реализма. Нельзя не отметить в качестве важных вех в развитии ПКИП конференции, посвященные юбилеям А. В. Полякова, которые прошли в Санкт-Петербургском государственном университете в 2014 и 2024 гг., а также выход двухтомной коллективной монографии в честь 60-летия А. В. Полякова «Коммуникативная теория права и современные проблемы юриспруденции» и избранных трудов самого основоположника коммуникативного правопонимания2.
За последние несколько лет (в том числе по результатам проводимых конференций) было опубликовано несколько коллективных монографий, которые, как представляется, дают развернутую картину того, какие проблемы обсуждаются в рамках ПКИП. Эти монографии посвящены культуральным исследованиям права, юридическому мышлению, юридической герменевтике, постклассической онтологии права, правогенезу, легитимности права, критическим теориям права, антропологии права и другим те-мам3. В этих работах читатель сможет обнаружить многочисленные сноски на постклассические исследования права и авторов, которые эти исследования проводят.
Методология и материалы
Методология ПКИП — это, прежде всего, иные, по сравнению с классической юриспруденцией, принципы, задающие постклассическую онтологию, эпистемологию и аксиологию права. Это принцип дополнительности, предполагающий неустранимость наблюдателя и релятивность (относительность не только объекта, но и наблюдателя, общества, исторического и социокультурного контекста); принципы множественности оснований права и потенциальной неисчерпаемости его существования (сложностности и контингентности);
интерсубъективности; человекомерности; аксиологической имманентности (неустранимости ценностей); лингвистического опосредования; практической ориентированности; неустойчивости. Эти принципы конкретизируются в таких методах ПКИП, как диалогика; герменевтические методы; включенное наблюдение; критический дискурс-анализ; интент-анализ; нарративные методы; метод саморефлексии; вероятностного моделирования и некоторые другие, которые не отрицают, а дополняют классические методы юридической догматики и социологии права.
Важным с методологической точки зрения является вопрос: что же представляют собой ПКИП относительно их институционализации? Можно ли их считать научной школой, парадигмой, подходом в правопонимании, типом юридической рациональности, научно-исследовательской программой или еще чем-то, как об этом заявляется в некоторых работах, посвященных этой проблематике? Вопрос институционализации какого-либо явления имеет как содержательный, так и организационной аспекты. Последний, в частности, важен для придания статусности соответствующим исследованиям, для их пропаганды, что, как доказано в социологии науки, играет важную роль в их развитии.
Прежде чем приступить к обсуждению основных содержательных характеристик ПКИП, попробуем ответить на второй вопрос — каков их институциональный статус. ПКИП нельзя отнести к научной школе. Полагаем, это обусловлено тем, что под термином «Постклассические исследования» скрываются разные, порой значительно отличающиеся, прежде всего по объекту и предмету (в меньшей степени по методологии), исследования права. Кроме того, для научной школы, по крайней мере в классическом варианте таковой, необходимо наличие четкой структурной организации, предполагающей наличие признанного в ней лидера, приближенных к лидеру «адептов», членов школы, учеников. Такой иерархии в ПКИП явно не наблюдается. Ко всему прочему, о чем автору доводилось подробнее говорить на научных конференциях4 и писать5, научные школы остались в прошлом, а им на смену пришли «незримые коллегии» (или «колледжи»), гораздо более мягкие с точки зрения их организации и научного ядра, позволяющего их идентифицировать. Таковые сегодня представляют собой объединения ученых «по интересам», обсуждающих то, что их волнует. В то же время общие научные вехи, прежде всего методологические, которые, в свою очередь, задают предметное видение исследуемого, позволяют такие незримые коллегии позиционировать, а им занимать соответствующее место в поле юридической науки (используя словарь П. Бурдье). Только метафорическое использование термина «научная школа» применимо к ПКИП.
Еще менее приемлем термин «парадигма» применительно к ПКИП. Это связано в первую очередь с тем, что в общественных науках, включая юриспруденцию, парадигм в прямом, куновском смысле не существует, а имеет место множественность исходных посылок, стандартов или образцов решения головоломок (и даже «дисциплинарных матриц», которыми Т. Кун заменил термин «парадигма»). «Полипарадигмальность», если уместно такое выражение, свойственна юриспруденции как минимум с ХIХ в., периода, когда она приобретает современное институциональное оформление.
Ближе к тому, что именуется ПКИП, — организация научного знания в виде научно-исследовательской программы. Таковая, как завещал нам И. Лакатос, образуется из совокупности нескольких теорий с неким общим основанием (которые его — основание — развивают). В то же время обнаружить «жесткое ядро», «защитный пояс», «позитивную и негативную эвристики» не так просто применительно к ПКИП, хотя возможно.
Еще ближе к ПКИП термины «подход» или «направление», которые в силу своей абстрактности требуют должной конкретизации, что и будет предпринято ниже. К научно-исследовательской программе, подходу или направлению как маркерам ПКИП примыкает ставший недавно популярным термин «зон-тичность». «Зонтичный термин» охватывает несколько теорий или даже подходов, направлений, объ- единенных каким-то общим началом, основанием. В связи со сказанным самое время перейти к тому, что это за начало или основание ПКИП — к их содержательной характеристике.
Результаты исследования и их обсуждение
ПКИП выступают критическим подходом применительно к тому, что именуют классикой. С этого, собственно говоря, начиналась неклассическая философия в конце ХIХ – начале ХХ в. К. Маркс, Ф. Ницше и З. Фрейд — наиболее значимые фигуры, вознамерившиеся ниспровергнуть классическую метафизику. Следует заметить, что важный вклад в переосмысление оснований философии и смены картины мира (как научной, так и обыденной) внесли физики: Н. Бор, В. Гейзенберг, А. Эйнштейн. Не меньшую роль в этом сыграли радикальные идеи неопозитивистов (логических позитивистов), объявивших философские (метафизические) проблемы псевдонаучными бессмыслицами. При этом возникает несколько сложнейших философских вопросов, связанных с трансформацией классики в неклассику, и прежде всего — является ли этот процесс радикальным разрывом, отрицанием философии как таковой? История показала, что такой радикализм неуместен, хотя изначально неклассика позиционировала себя как «критический пересмотр и отказ» от «классических структур» «перед лицом новой проблемной ситуации»6. Философия, слава Богу, сохранилась. Более того, сегодня уместно утверждать, что неклассическая философия (рациональность, картина мира) надстраивается в качестве более высокого «этажа рефлексии» над классической философией7.
Неклассическая философия признала неустранимую роль субъекта — «наблюдателя», проводящего осмысление бытия или научное исследование и используемые им средства из процесса познания и его результата. Оказывается, что наше представление о мире, который, конечно, можно считать реально существующим, зависит от того, как и насколько хорошо знает человечество о его «реальном существовании». Реальность зависит от того, что воспринимается как реальное, — важная идея, приписываемая американскому социологу У. Томасу, автору теории социальной установки. Если нет информации о том, что произошло какое-то событие, то происшедшее (даже совершенное преступление) не может считаться как «реально существующее» (хотя социологическими методами латентность произошедшего с определенной вероятностью можно обнаружить). Особо важно это заявление в «эпоху постправды», когда новостная повестка определяет то, что заслуживает внимания и потому признается существующим. К этому можно относиться с негодованием, но отрицать зависимость существования «вещи-для-нас» от восприятия могут только те, кто по-прежнему свято верят в побасенки теории отражения. Заметим, что речь не идет о «голой» субъективности (волюнтаризме или радикальном произволе) неклассической картины мира. Речь идет об интерсубъективности. Не любая информация образует картину мира, а только общезначимая, принимаемая основными референтными группами и широкими слоями населения данного социума8 и используемая в практической жизнедеятельности.
Неклассическая философия и соответствующая концепция права, таким образом, исходит из неустранимой, имманентной роли субъекта и используемых им средств в конструировании социальной (социально-правовой) реальности, картины мира. Отсюда важнейший вывод: правовая реальность — это не данность, сотворенная когда-то кем-то, но продукт или процесс конструирования и переконструирования, всегда обусловленного множеством факторов, образующих контекст и «сопротивление структуры» общезначимых образцов поведения индивидуумов в данном обществе, обеспечивающих как минимум его — общества — самосохранение.
Вторая половина ХХ в. ознаменовалась рефлексией и переосмыслением того, что около 100 лет назад возникло как «неклассическая философия»9. Усилиями М. Фуко, Р. Барта, Ж. Деррида, М. К. Мамардашвили,
Э. Ю. Соловьева, В. С. Швырева и других авторов интеллектуальным мейнстримом становится осознание трансформации картины мира, формирование нового лексикона10 и постепенный отход от классической философии. Этому в немалой степени способствовало разочарование в идеях эпохи Просвещения и в перспективах построения светлого коммунистического рая на Земле (чуть позже — разочарование в неолиберальной утопии «конца истории»). Идеи контекстуальности, зависимости научных исследований от ценностно-целевой составляющей, которые стали активно разрабатываться в социологии знания с 70-х гг. ХХ в., дополненные представлениями о сложностности (Э. Морен) и контингентности (Н. Луман) нашего мира, а также открытиями синергетики (прежде всего, диссипативности структур, точками бифуркации и др.), привели к возникновению постнеклассической философии. На наш взгляд, различия между неклассикой и постнеклассикой не так уж и принципиальны, и изменившееся в конце ХХ – начале ХХI в. мышление («интеллектуальный консенсус эпохи») можно именовать постклассическим (по аналогии с эволюцией позитивизма в неопозитивизм и постпозитивизм).
Для прояснения содержания ПКИП важно также осуществить позиционирование этого направления по отношению к постмодернизму — популярнейшему направлению в социогуманитарном (преимущественно «левацком», неомарксистском) знании конца ХХ в. Сразу же отметим, что постмодернизм — сложный феномен, пока не получивший однозначного осмысления, которое воспринимается научной общественностью радикально полярно: от апологитического, порой экзальтированного, принятия и восхваления до обвинения во всех смертных грехах. Применительно к постмодернизму (точнее — к постмодерну) можно, как это делают некоторые авторы начиная с А. Тойнби, говорить о новой эпохе, приходящей на смену модерну. Отрицать отличия, произошедшие в экономике, социальной структуре, политике, юридической сфере в это время (конец ХХ в.) не приходится. Однако поиск «трех отличий» (или более) постиндустриального или информационного общества от капиталистического — занятие малопродуктивное, так как наименование чего-либо всегда будет неполным и, хотя бы, и относительно произвольным11 относительно значения и содержания означаемого. Можно сколь угодно долго спорить о том, есть ли сущностное отличие мира, в котором мы живем, от того, который был в ХХ в., но стоит помнить, что такого рода споры всегда являются «сущностно оспоримыми».
Неоспоримо же то, что, в отличие от постмодернизма во всех его проявлениях, ПКИП предлагают позитивную программу, которая позволяет (в определенной степени) отвечать на вызовы критики эпохи модерна и классической философии права12. При этом следует иметь в виду, что ПКИП — повторим еще раз — это не одна теория или концепция, а несколько подходов. Среди них уместно назвать не только коммуникативную и диалогическую теории, но и антропологию права, юридическую дискурсивную семиотику и лингвистику, культурологию (культуральные исследования) права, правовую герменевтику и некоторые другие концепции. Их объединяет признание многомерности, потенциальной неисчерпаемости бытия (и существования) права, его перманентной изменчивости, чело-векомерности (антропности), культурной, знаковой опосредованности (шире — содержательности), имманентной интерпретируемости правовой реальности. Объективность как краеугольный камень классической философии, элиминирующая субъективность из процесса научного познания, заменяется интерсубъективностью.
Важнейшим положением ПКИП является признание многомерности или полиреферентности права. В самом деле, что можно считать референтом слова «право»? Очевидно, что право не ограничивается внешними формами, в которых оно проявляется. Но и «идея права», как бы она не понималась, также не охватывает все модусы бытия этого феномена (тем более что между идеей и ее воплощением на практи- ке никогда не может быть тождества). С другой стороны, полностью отрицать «референтность» термина «право» вряд ли оправданно. Оно отсылает к человеку, его действиям по конструированию и воспроизводству норм права, включая их внешнее закрепление (оформление), к результатам его действий, к значениям и смыслам, приписываемым как действиям, так и результатам. Право также отсылает к своему историческому и социокультурному контексту, к обстоятельствам, влияющим на процесс его — права — функционирования, к взаимообусловленности права и экономикой, политикой, демографией и всеми другими социальными и природными (для экологического, например, права) явлениями. Как раз в этом и кроется парадокс — право связано со всеми социальными и многими (если, в определенной степени, не со всеми) техническими и природными феноменами, и потому очертить его границы чрезвычайно сложно: они описываются для дня сегодняшнего и очевидно будут пересмотрены завтра.
Важно то, что признание многогранности и многомерности, а также сложностности (по терминологии Э. Морена) и комплексности нашего мира — это как раз отличительная черта неклассической или постклассической философии. Классическая философия описывается М. К. Мамардашвили как целостное и цельное, единое «умонастроение», в то время как неклассическая характеризуется им как мозаичная, фрагментарная13. М. Хайдеггер, в свою очередь, подчеркивал, что мир не является предметом, который «стоит перед нами». « Мир бытийствует »14. В постклассической же философии постулируется «ускользание бытия» (Ф. И. Гиренок). Поэтому проекты классической философии найти единое универсальное основание бытия и сознания и просветителей создать идеальное общество, основанное на познанных законах бытия и мышления, не могут быть реализованы «по определению»15: как утверждается в постклассической философии, не существует единого, содержательно универсального основания мироздания, а имеет место множественность таковых или, как считает Э. Морен, «единство во множественности и множественность в единстве»16.
Отсюда вытекает важнейшее положение постклассической философии права: право невозможно определить одним, единственно правильным, содержательно-универсальным способом. Известный философ К. А. Свасьян по этому поводу заявляет: ни один объект не существует в изоляции. Поэтому определить что-либо можно только через его соотнесение с другими объектами. Пределы такого расширения потенциально выходят за границы «смыслового объема Вселенной как таковой»17. Это же, очевидно, относится и к праву. Все его универсальные определения могут быть только формальными; содержательность права имманентно контекстуальна. Это не означает утверждение волюнтаризма, релятивизма и произвола, но вписывает содержательность в исторический и социокультурный контекст. Так, взаимное признание прав и обязанностей, правовой диалог или принцип формального равенства как основания права в коммуникативной, диалогической и либертарной концепциях права наполняются конкретным практическим содержанием в исторически данном социуме, в котором господствует именно такая правовая культура, которая задает содержательные критерии того, что считается признанием, а что грубым, «агрессивным» насилием, взаимностью и принудительной навязанностью и т. д.
Еще одним важным положением постклассического подхода или научно-исследовательской программы является неустранимая роль человека — носителя статуса субъекта права. Классическая философия (и философия права) со времен Декарта элиминировала субъекта из научного познания как фактор, мешающий достижению объективности знания. Неклассическая философия, как упоминалось выше, признает имманентность субъекта-наблюдателя, от позиции которого и методов, им используемых, зависит процесс и результат научного исследования. При этом субъект трактуется не как точка отсчета или трансцендентности науки, но как человек «из плоти и крови» (как пишет Б. Мелкевик), конструирующий и воспроизводящий своими практиками правовую реальность. Более того, он сам конструируется этими практиками. Другими словами, в этом процессе имеет место диалог личностного начала (проявляющегося в потребностях, интенциях, ожиданиях и других субъективных моментах) и структуры, которая как ограничивает, так и создает возможности для самореализации личности (как указывает Э. Гидденс). Личность в правовом смысле социализируется благодаря приобщению к структурам права, но в то же время эти структуры конструировались (как правило, в сложном процессе конкурентной борьбы за право официальной юридической номинации социального мира, как сказал бы П. Бурдье) человеком, его практиками и субъективными факторами. Структуры, как известно, «не выходят на улицы», но существуют в практиках конкретных людей.
Еще одной важной особенностью ПКИП является их практическая ориентированность. Преодоление (как дополнение, но не отрицание!) или переосмысление классической юридической догматики позволит вернуть теории права тот статус, который она заслуживает. А для этого необходимо отказаться от игр в терминологию, которой в основном и заняты теоретики права (или преподаватели теории права, по долгу служебных обязанностей вынужденные писать научные публикации).
Мы не ставим под сомнение важность терминологической четкости, но нельзя не заметить, что, во-первых, обеспечить идеальность юридических номинаций и дефиниций невозможно в силу нескольких причин. Юриспруденция не может не использовать естественный язык, а он, как доказали неопозитивисты и представители аналитической философии, несовершенен «по определению». Поэтому неизбежны метафоры, оценочные понятия и многозначные дефиниции в юридических конструкциях. Кроме того, полное и исчерпывающее описание всегда оборачивается либо тавтологией, либо регрессом в «дурную бесконечность», либо (что чаще всего и происходит) — насильственным прерыванием таких предприятий с явно завышенными ожиданиями. Следует вспомнить в этой связи и об ограниченности человеческой рациональности, а также о текучести, изменчивости (или инфляции, как изящно выразился Н. Рулан) законодательства и правовой реальности как таковой.
Но важнее другое (и это — во-вторых). Сами по себе дефиниции, сколько бы выверенными они ни были, не способны обеспечить идеальное правовое регулирование (хотя без них таковое невозможно), так как действие права, хотим мы того или нет, — это действия людей, которые в правовой сфере образуют правоотношения и простые формы реализации норм права (соблюдение, исполнение и использование). Поэтому человеческий фактор имманентен правовому регулированию. А это говорит о том, что нужно изучать не только процедуры, правовые средства, техники и технологии реализации права, но и, собственно говоря, человеческие практики, в которых всё это воплощается. Они же, в свою очередь, включают ментальный и поведенческий аспекты, потребности, интересы, мотивацию, интенцию, цель, принятие решения, результат, но и контекст в виде внешних факторов (и их восприятия правосознанием), воздействующих на принятие решения и результат в конкретной жизненной ситуации. Другими словами, речь идет о том, чтобы социологизировать догматику права и юридическую технику, наполнить их человеческим измерением.
Выводы
Несомненно, существуют и другие важные аспекты ПКИП, которые невозможно отразить в одной статье. Представляется важным подчеркнуть, что в эпоху «новой серьезности», которая пришла на смену постмодернизму, ПКИП не пытаются «сбросить на свалку истории» классическую юриспруденцию и объявить себя новой парадигмой, а претендуют на развитие правоведения в новых условиях. В этой связи чрезвычайно плодотворной следует признать идею В. С. Степина18 о том, что три типа рациональности — классический, неклассический и постнеклассический — не отвергают друг друга, а сосуществуют в современной философии и науке. Классическая наука исследует так называемые простые объекты традиционными научными методами (например, проводя анализ когеренции догмы права, собирая эмпирический материал, выявляя корреляции права с другими социальными явлениями) и справляется с этим должным образом. Сложные объекты, в которых неустранима позиция внешнего наблюдателя, а результат научного исследования зависит от того, как, какими методами оно проводится, предполагают использование неклассической методологии, например, включенное наблюдение и другие так называемые «качественные» социологические методы. Одновременно неклассическая методология подразумевает анализ использования знаковости (дискурсивности) в описании и объяснении права в его динамике.
Так называемые «сверхсложные объекты», открытые, например, синергетикой в конце ХХ в., отличаются стохастичностью, диссипативностью, непредсказуемостью в точках бифуркации, в том числе из-за неустранимости ценностного, социокультурного контекста в процессе их научного исследования. Человекомерность такого рода объектов — это их двойная или тройная рефлексивность, вне которой такого рода объекты не могут быть признанными как «существующими для нас» (что не исключает их «существование для себя или в себе»). Методология рефлексивной герменевтики, диалогики, критического дискурс-анализа позволит адекватно представить научно-исследовательскую программу ПКИП, призванную исследовать динамику или механизм конструируемости правовой реальности и ее воспроизводимости практиками людей в контексте внешних факторов, интериоризируемых правовой культурой. Всё это, как представляется, наглядно свидетельствует о перспективах и важности дальнейших исследований постклассического подхода (или направления) в юриспруденции.