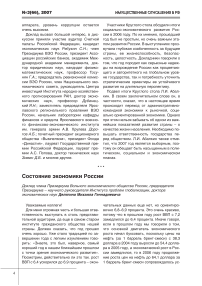Состояние экономики России
Автор: Делягин Михаил Геннадиевич
Журнал: Имущественные отношения в Российской Федерации @iovrf
Рубрика: Актуальная проблема
Статья в выпуске: 3 (66), 2007 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/170151594
IDR: 170151594
Текст статьи Состояние экономики России
Уважаемые коллеги!
Для меня огромная честь и большая ответственность выступать в столь представительной аудитории, да еще в самом старом институте гражданского общества нашей страны. Должен сказать, что год прошел очень хорошо. Уже стало традицией по завершении года с легким изумлением говорить: «Знаете, это был, наверное, самый хороший год в нашем ближайшем прошлом с точки зрения экономического развития». Посмотрим, действительно ли это так. рост ВВП с 6,4 ускорился до 6,9 процента – окон- чательных данных еще нет, но ориентировочно 6,8–6,9 процента. Это очень красиво, потому что в прошлом году рост ВВП с 7,2 замедлился до 6,4 процента. Иначе говоря, если в прошлом году мы говорили о том, что основной двигатель экономического роста начал буксовать, поскольку цены на нефть (за 1 баррель брент-смеси) с 38,3 доллара в 2004 году выросли до 54,4 доллара в 2005 году, а экономический рост в России замедлился, то в 2006 году продолжение роста цен на нефть до 64,1 доллара за 1 баррель брент-смеси сопровождалось ус- корением, а не торможением экономического роста. Это значит, что наша экономика переструктурировалась, по крайней мере отчасти, адаптировалась, хотя бы частично, к постоянному притоку нефтедолларов, научилась переваривать и перерабатывать значительную их часть.
Этот успех не отразился на темпах роста промышленности, которые, к сожалению, даже несколько снизились – с 4,0 процента в 2005 году до 3,9 процента в 2006 году. В то же время, безусловно, позитивной новостью стало ускорение роста сельскохозяйственного производства с 2,4 до 2,8 процента, вызванное прежде всего повышением его эффективности.
Безумный инвестиционный рост в нашей стране продолжился и даже ускорился – с 10,7 процента в 2005 году до 13,5 процента в 2006 году. Я понимаю, что любая статистика является неточной, несовершенной и может быть оспорена. Любые показатели официальной статистики в макроэкономическом росте могут быть «убиты» просто указанием на то, что официальная инфляция составляет 9 процентов. И разговоры о росте инвестиций «убиваются» указанием на то, что значительная часть инвестиций – это инвестиции в жилье (эти разговоры имеют спекулятивный характер), а также в передел собственности, которая не имеет отношения к производственной модернизации, а собственно производственные инвестиции сконцентрированы в считанных отраслях. Все это, безусловно, так. Но даже с учетом этих погрешностей (понятно, что эти погрешности действуют примерно одинаково и в прошлом, и в настоящем) мы все равно имеем хорошую статистику и ощутимое ее улучшение.
Что касается роста реальных доходов населения, то даже неловко говорить, что он замедлился, потому что на фоне откровенно безумных его темпов это замедление незначительно – с 11,1 процента в 2005 году до 10 процентов в 2006 году. Да, конечно, это рассчитано исходя из показателя инфляции в 9 процентов, который оспаривается всеми. Да, конечно, наша доблестная Федеральная служба государственной статистики включает в доходы населения результаты «рублевизации» сбережений (когда люди сдают валюту, переводят валютные сбережения в рублевые и дальше хранят рубли, то получение этих рублей считается их доходами). Но, несмотря на это, мы все равно имеем рост доходов населения и наблюдаем потребительский бум, который продолжается уже три года. В 2005 году рост розничного товарооборота составлял 12,8 процента, а в 2006 году – 13 процентов. Более того, потребительский бум показывают не только динамика кредитования, не только благосостояние торговли, не только благосостояние некоторых производителей, во все растущей части, к сожалению, иностранных, а не отечественных. Показателем потребительского бума и в целом увеличения реальных доходов населения является снижение дифференциации его доходов. Она остается заоблачно высокой – это большая и острая проблема, но она немного снижается, и рост социального самочувствия населения улучшается.
Складывается парадоксальная ситуация. В России сохраняется прежняя, абсолютно чудовищная социальная структура населения: 13 процентов граждан испытывают нехватку денег на покупку еды (это корреспондируется с официальными данными о доле населения с доходами ниже прожиточного минимума); 51 процент, включая эти 13 процентов, испытывает нехватку денег на покупку одежды и 87 процентов, включая этот 51 процент, испытывают нехватку денег на покупку простой бытовой техники. Иначе говоря, уровень нищеты в России – 13 процентов, уровень бедности – 87 процентов. Но, несмотря на это, в стране наблюдается ощутимое улучшение социального самочувствия. В 2006 году люди стали лучше воспринимать перспективу, лучше оценивать изменение положения своей семьи – об этом свидетельствуют результаты различных социологических опросов, проведенных в самых разных целях. Можно зафиксировать, что произошло существенное социальное улучшение, и хотя нефтедоллары в целом бедным не достаются, однако у бедных их стало все же больше. Это очень хороший позитивный результат.
Даже самый страшный элемент российской статистики – профицит бюджета, который является самым страшным обвинением нашей экономической политике, и то перестал расти. Если в прошлом году профицит составлял 7,5 процента ВВП (по сравнению с предшествующим годом он вырос почти вдвое), то в этом году это показатель равен 7,4 процента ВВП. Да, неприлично много, но, слава тебе, Господи, хоть не растет.
По-видимому, в 2007 году будет продолжаться инерционный рост экономики. Однако надо сказать, что факторов, способных создать серьезные проблемы, нет, как нет и факторов, способных сильно подстегнуть рост. Причем в определенной степени мы даже не очень сильно зависим от цен на нефть, потому что в тех пределах, в которых они реально могут изменяться, учитывая влияющие на них факторы, наша экономика устойчива. И можно сказать, что даже при самом негативном из возможных сценариев – при снижении экономического роста на 1 процентный пункт – в следующем году российская экономика все равно превысит уровень 1990 года. Наши торопыги отрапортовали об этом по итогам 2006 года. Наверное, можно считать по-разному, но если считать более-менее точно, не учитывая пересчеты, которые делались в разные промежуточные моменты в различных административных целях, то такие результаты будут достигнуты в текущем году.
Безусловно, экономика 2007 года коренным и далеко не лучшим образом отличается от экономики 1990 года. В частности, ниже доля высоких технологий, хотя оставшиеся и вновь развившиеся высокие технологии существуют сегодня уже на более прочной, рыночной основе. Однако само по себе превышение уровня экономических показателей последнего года существования СССР, хотя он тоже был не лучшим годом, – убедительное достижение.
Если предположить, что в 2007 году развитие российской экономики будет инерционным, то даже при самом консервативном прогнозе, сделанном специалистами Института проблем глобализации, отставание в промышленности, которое в середине 1990-х годов было двукратным, будет сокращено до
17 процентов. Отставание в отраслях сельского хозяйства будет сокращено до четверти, отставание в сфере инвестиций, которое было четырехкратным, будет сокращено до двух раз. Понятно, что это уже другие инвестиции, другое сельское хозяйство, другая промышленность. Показатель доходов населения на четверть будет превышать уровень 1990-го года (он был превышен уже в 2005 году). Да, конечно, это результат не реального превышения уровня доходов населения, а результат несовершенства статистики 1990го года и наличия огромного слоя сверхбогатых людей, которых не было тогда, но тем не менее это тоже некоторые статистические улучшения, которые заметны, ощутимы, и, вообще говоря, я не понимаю, почему государство этим не хвастается.
9 процентов инфляции, как бы критически мы не относились к этой цифре, – это результат. Впервые за все годы реформ инфляция стала, если можно так выразиться, «однозначной», она впервые опустилась ниже 10 процентов и выражается одной цифрой. И я не понимаю, почему я не слышу вопля восторга по этому поводу, хотя бы ориентированного только на иностранных инвесторов, которые верят почти во все, что написано на бумаге.
Очень хорошие изменения произошли в движении капитала, причем в движении капитала частного, что особенно ценно. Если в 2000 году чистый вывоз капитала составил 25 миллиардов долларов (к 2005 году он был доведен не то что до «нуля», было положительное сальдо в 1,1 миллиарда долларов, но это в пределах допустимой статистической ошибки), то в 2006 году мы получили бум притока капитала в Россию: чистый приток частного капитала составил 41,6 миллиарда долларов. Это восхитительный результат, которым можно только гордиться. Да, можно сколько угодно говорить, что это не совсем тот капитал, который хочется; что это займы корпораций, в том числе государственных; что это деньги, которые идут в стратегические отрасли, где вообще-то можно было бы и без них обойтись, что это часть спекулятивных инвестиций. Перечислять можно сколько угодно, и все это будет правдой. Но раньше-то, еще год назад, было хуже. И полученный результат, даже с учетом не очень устраивающего нас качества капитала, очень хорош. Прямые иностранные инвестиции составили 32 миллиарда долларов, и за это уже не так стыдно, как раньше. Правда, частный капитал приходил, а государство капитал из страны выводило. Здесь можно вспомнить и Стабилизационный фонд, который с 1,2 триллиона рублей вырос до 2,3 триллиона рублей, и все эти деньги вложены в иностранные активы – 45 процентов в доллары, 45 процентов в евро, 10 процентов в фунты стерлингов. Можно вспомнить, что остатки на счетах федерального бюджета составили 3,1 триллиона рублей – это 3/4 годовых расходов. Тем не менее даже если мы не будем учитывать поведение государства, которое есть элемент все-таки политики, а смотреть на чисто экономический процесс, то есть на движение частного капитала, можно утверждать, что мы имеем хороший результат.
Есть еще одна очень приятная новость, на которую не обращают внимание. Обычно в нашей стране ситуация с движением капитала улучшалась за счет того, что отток капитала ускорялся медленнее, чем его приток, но все же ускорялся. Частный капитал уходил из страны, хотя и замещался другим капиталом, потому что частный капитал оказывался «между молотом и наковальней»: с одной стороны, транснациональные корпорации, с другой стороны, «дружеский бизнес» российских чиновников, «трофейные команды», которые уже несколько лет рыщут по всей российской экономике и захватывают частные бизнесы, собирая их для того или иного высокопоставленного деятеля. Попадая «между молотом и наковальней», частный капитал уходил. В 2006 году в России, если верить статистике Центрального банка Российской Федерации (Банк России), впервые за длительное время произошло сокращение валового оттока частного капитала на 13 процентов. Здесь есть к чему придраться, потому что в платежном балансе есть статья «чистые ошибки и пропуски», которая является сальдовой и отражает движение капитала, которое государству незаметно, поэтому, возможно, ситуация не столь красива, как показывает статистика. Но во всяком случае она отчетливо лучше, чем в 2005 году, несмотря на все наши проблемы. Значимо и то, что впервые с 2002 года сократился внешний долг Российской Федерации. Это, правда, произошло только в третьем квартале, годовых данных еще нет, но тем не менее за третий квартал он сократился на 20 миллиардов долларов, то есть до 268,6 миллиарда долларов – тоже некоторое достижение.
Правительство свой внешний долг как сокращало, так и сокращает. Со второго квартала 2006 года начал сокращать свой внешний долг и Банк России, который проводит некоторые хитрые операции, проявляющиеся в статистике как нарастание внешнего долга, теперь этот долг сокращается. Банки свой внешний долг увеличили более чем в 1,5 раза – с 50 до 78,5 миллиарда долларов, но нефинансовый сектор за третий квартал сократил свой внешний долг на 7 миллиардов долларов – до 135,5 миллиарда. Поясню, что нефинансовый сектор включает государственные корпорации.
Да, конечно, скорее всего, в 2006 году капитал решил остаться в России в силу совмещения многих уникальных обстоятельств. Во-первых, у них огромная емкость внутреннего рынка, поскольку ясно, что таких цен на нефть, как в 2006 году, в ближайшее время уже не будет, они будут медленно, но снижаться – разговоры о возможности повышения цены до 150 долларов за баррель, ведшиеся, в частности, на последнем Всемирном экономическом форуме в Давосе, представляются пока не вполне обоснованными. Во-вторых, в прошлом году открылось ралли на фондовом рынке, и весь год люди вспоминали это ралли и сохраняли ресурсы на фондовом рынке, а в 2007 году этого ралли не будет. В-третьих, не будет и такого роста стоимости недвижимости, который был в прошлом году. Наконец, такой фактор, как политическая стабильность: быть-то она будет, но мало кто в нее поверит заранее.
Однако, глядя в будущее, не в 2007 год, когда будут действовать инерционные процессы, а дальше, мы должны, как мне кажется, думать не столько о статистике и инерционных процессах, сколько о хозяйственном механизме, который сложился в нашей стране в последние годы. Отечественная экономика научилась адаптироваться к ним, российский бизнес научился жить по этим правилам (честь ему и хвала), но сами правила вызывают мало энтузиазма, и, строго говоря, как раз на этом хорошие новости и заканчиваются.
Если проанализировать процессы происхождения российских реформ начиная с 1987 года, то мы увидим, что был только один неуклонный монотонный процесс, который шел непрерывно. Это процесс освобождения правящей бюрократии от какой бы то ни было ответственности. В ходе этого освобождения бюрократия и сама постоянно меняла свои лозунги, союзников, образ действия, да и сама менялась. Два или три года назад правящая бюрократия полностью освободилась от этой ответственности. И сейчас положение государственного руководителя того или иного уровня, да и положение руководителя формально коммерческой структуры, так или иначе связанной с государством, практически не зависит от того, насколько успешна его деятельность по выполнению его прямых служебных обязанностей. Есть примеры, когда человек несет ответственность за последствия своей деятельности, но это, скорее, исключения.
В России сложился хозяйственный механизм, который основан на полной безответственности представителей государства, безответственности практически в каждой точке. Соответственно, когда люди освобождены от ответственности, они не хотят заниматься серьезной работой – они занимаются пиаром и какими-то личными вопросами вплоть до обогащения, но они не занимаются развитием экономики. Даже когда их сверху очень энергично пинают, даже когда волевыми решениями создаются вещи типа инвестиционного фонда, потом обнаруживается, что инвестиционный фонд создали, деньги выделили, а программы, на которые предполагалось эти деньги тратить, не разработаны.
В середине января Министерство финансов Российской Федерации (Минфин Рос- сии) совершило акт гражданского мужества – оно представило в открытый доступ кассовые расходы всех основных гражданских бюджетополучателей, в том числе в процентах к тому, что заложено в бюджет. Тем самым Минфин России показал, сколько те или иные министерства и ведомства потратили из тех денег, которые им были обещаны бюджетом. Рекордсменом по недоиспользованию средств стало Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России): оно потратило лишь 18 процентов от денег, которые были предусмотрены бюджетом. Если бы речь шла о каком-нибудь агентстве по развитию жилищно-коммунального хозяйства, можно было бы говорить, что это Минфин России всякими хитрыми способами, применяя административный ресурс, не дает людям предусмотренных бюджетом денег и тем самым не позволяет им нормально работать. Но Минэкономразвития России имеет достаточно административных ресурсов для того, чтобы делать то, что он хочет, даже вопреки сопротивлению Минфина. Если люди потратили 18 процентов от выделенных им средств, если у нас в таком объеме осуществляется кассовое финансирование развития экономики, значит, либо они свои обязанности исполнять не хотят, либо они их исполнять не могут. Но не хотят или не могут – в данном случае вопрос не принципиальный, потому что результат, к сожалению, налицо.
В настоящее время в нашей правящей бюрократии сложилось две группы. Первую можно условно назвать представителями либералов. Правда, это либералы, которые либеральные ценности довели до самоотрицания, и поэтому я их называю либеральными фундаменталистами, хотя они обижаются. И вторая группа – это люди, которые наследовали коммерческим олигархам эпохи Ельцина. Эти олигархи, как известно, контролировали гражданские министерства и зарабатывали за счет этого контроля путем использования государственных ресурсов в своих целях. На смену им пришли другие олигархи, которые контролируют в своих целях уже не гражданские, а силовые министерства и ведомства и используют для личного обогащения не имущество государства, а право государства осуществлять насилие. Поэтому их условно можно назвать силовыми олигархами. Эти две группы людей, конечно, не любят друг друга и борются друг с другом, но при этом находятся в симбиозе. С одной стороны, либеральные фундаменталисты отбирают деньги у всех, у кого можно (а это население, в том числе «средний класс»), и передают эти деньги бизнесу. Причем не только бизнесу, который связан с ними лично, но иногда и бизнесу вообще, даже прямо с ними не связанному. Они надеются, что в полном соответствии с либеральной теорией там «расцветет сто цветов».
Однако у бизнеса, не связанного тесно с либеральными фундаменталистами, значительную часть переданных ему денег немедленно забирают и непроизводительно потребляют «силовые олигархи». В результате у бизнеса не получается развиваться. Трагизм ситуации не в том, что она не очень эффективна, а в том, что все участники этой схемы страшно довольны жизнью, все занимаются любимым делом. Так, либеральные фундаменталисты отдают деньги бизнесу и при этом не забывают себя. Бизнес, хоть и лишен, за редкими исключениями, возможности быть тем, чем он должен быть – фактором экономического и не только экономического развития страны, доведен до положения дойной коровы, а, как известно, дойная корова чувствует себя неплохо – ее кормят, не режут, и почти не бьют. Бизнесменов, особенно натерпевшихся страху, такое положение вполне устраивает. Ну и, наконец, силовые олигархи, которые используют государственную структуру для личного обогащения, ощущают себя живущими практически при коммунизме и тоже находятся на седьмом небе от счастья. В результате все довольны, и нет возможности для развития. Когда несколько лет назад Явлинский сказал, что «в России есть рост без развития», эта фраза очень долго воспринималась как политическое заявление. И в прошлом году я был в шоке, когда обнаружил, что высказанная Явлинским мысль стала нормальной повседневной фразой для наших фондовых аналитиков, которые произносят ее автоматически, как нечто само собой разумеющееся.
На основании изложенного можно заключить, что в нашей стране не решаются ни среднесрочные, ни долгосрочные проблемы не только системные, связанные с собственностью, монополизмом, но и проблемы, которые непосредственно ограничивают развитие страны. Прежде всего речь идет о инфраструктурных ограничениях, которые приобрели комплексный, всеобъемлющий характер. Вот уже в течение двух лет в Москве любой светский разговор начинается с того, что по городу нельзя проехать из-за пробок и что даже в метро в часы пик большие очереди на эскалатор и страшная давка в вагонах – это и есть частный случай инфраструктурных ограничений. Они существуют не только на транспорте и в электроэнергетике, они есть практически везде, и они нарастают.
Вторая проблема, прямо ограничивающая развитие, – это деградация человеческого капитала, которая наглядна и очевидна. Еще вчера я участвовал в Международной студенческой конференции в Новосибирске, и один из очень уважаемых людей из Москвы несколько раз подряд сказал, что (цитирую) «мы должны понимать о том , что являемся частью человеческой цивилизации». Деградация человеческого капитала дошла до того, что даже представители образованной части общества утрачивают навыки владения русским языком.
Но главная, ключевая, проблема в том, что государство, элементы и чиновники которого освобождены от ответственности, не решает существующих проблем – ему просто незачем напрягаться. А горизонты отнюдь не безоблачны.
Так, в 2007 году объем прибыли, которую заработает российская экономика, естественно, по международной отчетности, в лучшем случае не вырастет. Да, улучшится положение некоторых отраслей, будут расти котировки акций металлических, торговых, телекоммуникационных компаний, банков, но в целом объем прибыли не вырастет. За счет внешних факторов фондовый рынок вырастет процентов, может быть, на 20, но тем не ме- нее для экономики наиболее важная вещь – объем прибыли.
Кроме того, к сожалению, сейчас мы переживаем ситуацию, когда вынуждены учитывать такой макроэкономический фактор, как коррупция. Уже есть признаки того, что мы от раздела расширяющихся коррупционных рынков между различными группами влияний перешли к переделу этих рынков, и это начинает негативно влиять на российскую экономику в целом.
У России огромный запас прочности, который позволяет ей очень хорошо если и не развиваться, то по крайней мере расти без развития еще некоторое время, и нам будет очень везти с внешней конъюнктурой. Проблемы, которые могут возникнуть из-за слишком быстрого роста импорта, сокращения сальдо внешней торговли, которое будет вести к ужесточению финансовой политики и создавать слишком большие проблемы сначала для банков, а потом для всех остальных, в 2007 году еще не скажутся, еще не проявятся в острой форме. Однако у нас есть большое количество качественных проблем, которые, к сожалению, не поддаются количественной оценке в принципе.
Во-первых, это снижение эффективности работы государственного аппарата и изменение его мотивации, что проявляется в самых разных формах. Самый яркий пример – отношение к стабилизационному фонду: государство предпочитает выбрасывать деньги в никуда, но не направлять их на модернизацию своей страны. Причем можно направлять их на социальные нужды, поскольку для того, чтобы искоренить в стране нищету, чтобы все имели гарантированный прожиточный минимум, достаточно тратить в течение всего года дополнительно примерно столько же, сколько выбрасывается ежегодно в конце декабря залпом из-за неэффективного управления нашим бюджетом. В конце декабря каждого года расходы бюджета за три недели увеличиваются относительно среднемесячных предшествующих на 260–270 миллиардов рублей, и это не имеет никаких инфляционных последствий. Если эти деньги тратить равномерно в течение года (это не будет создавать инфляцию, потому что траты будут равномерными), то в нашей стране проблема нищеты будет решена. Конечно, это связано с решением огромного количества технических, операционных вопросов, но за три года их можно было бы если уж не решить или начать решать, то хотя бы начать ставить. Но, поскольку наше государство не интересуется своим обществом, своими людьми, вопрос даже не ставится.
Вторая проблема, которая показывает изменение мотивации нашего государства – это отношение к газу. В России не хватает газа, что вызвано, во-первых, быстрым ростом экономики и, во-вторых, тем, что реформа электроэнергетики привела к утрате управляемости отраслью, поэтому стало невозможным контролировать переход электростанций на газ. В результате еще летом прошлого года уже ощущалась серьезная нехватка газа во многих регионах страны. Но как государство на нее реагирует? Да, разбуриваются новые месторождения, но главные усилия сосредоточены совсем на другом направлении – в 2005 и 2006 годах началась серьезная экономия на поставках газа в страны СНГ, причем эта экономия внешне оформлялась как переход на рыночные отношения. А с 2007 года начнется экономия уже за счет России, и это тоже станет сдерживающим фактором нашего развития.
Существенной проблемой отечественной экономики, тоже количественно не оцениваемое, является рост трансакционных издержек. С одной стороны, он связан с ростом коррупционных аппетитов, и может произойти так, что эти коррупционные аппетиты превысят возможности экономики. Причем понятно, что превысят внезапно, так как эти расходы не учитываются статистикой. С другой стороны, мы имеем растущую эпидемию воровства на предприятиях, потому что люди, в том числе менеджеры, у которых сейчас из-за отсутствия развития в целом крайне ограничены возможности роста карьеры, смотрят на государство и думают: «Почему я должен относиться к своему руководителю, к своему хозяину завода лучше, чем относится к нему государство?». Эпидемия воровства продолжается примерно три года, и она ведет к достаточно болезненному росту издержек – я сужу по оценкам тех предприятий, которые обладают очень хорошей, качественной системой учета. Сюда вписываются и рост воровства на транспорте, в том числе железнодорожном, который покрывается иногда транспортной милицией, и рост воровства на потребительских кредитах, который тоже, судя по всему, превратился в род устойчивого бизнеса для некоторых «оборотней в погонах».
Есть проблемы, связанные и с ростом неопределенности в политической сфере. Полагаю, что Президент В.В. Путин до конца года с преемником не определится, просто исходя из соображений политической личной целесообразности, а это означает, что нас ждет очень нервный год. А когда бизнесмены нервничают, то они принимают не очень рациональные решения.
Ну и, наконец, крайне неприятное: напряженность в российском обществе растет. На фоне улучшения социального самочувствия возрастает раздражение населения. Это можно списывать на архаизацию, примитивизацию нашего общества, можно списывать на то, что улучшение социального самочувствия создает новые надежды, но люди видят, что эти надежды являются несбыточными. Это вопрос для социальных психологов. Я фиксирую то, что ощущаю, и то, что показывают результаты в том числе социологических опросов: при росте довольства – рост раздражения. Потенциально это может быть неприятно и даже опасно.
Без учета внешнеэкономических рисков нам гарантирован затухающий рост до 5, может быть, до 4,5 процента в 2010 году. Будут проблемы с чрезмерной жесткостью финансовой политики, придется менять весь механизм эмиссии денег – она сейчас более жесткая, чем по currency board. Возникнут проблемы и с инфраструктурными ограничениями – они будут только нарастать. Меры, которые сегодня принимаются по «расшивкам» этих инфраструктурных ограничений, незначительны и недостаточны. Будут проблемы и с деградацией человеческого капитала. Те попытки обеспечить развитие, которые предпринимаются сегодня, действительно предпринимаются на уровне региональных властей и крупного бизнеса, что очень хорошо и очень радует (примеры тому есть), недостаточны для развития страны. Но даже со всеми этими проблемами мы будем достаточно спокойно и устойчиво существовать до 2010 года. Однако если мы будем учитывать внеэкономические проблемы, в том числе политические и психологические риски, то мы должны ограничиться прогнозом на период до конца 2007 года, потому что с осени этого года на социально-экономическое развитие начнут оказывать влияние такие факторы, как нервные срывы представителей разных кланов. А это явления, которые я не брался бы прогнозировать.
В следующих номерах нашего журнала читайте материалы докладов, вызвавших наибольший интерес у участников Круглого стола.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ СЕМИНАР
19-20 апреля 2007 года, Москва
КОРПОРАТИВНАЯ ЗАЩИТА: СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЗАХВАТУ
-
• методы формирования собственниками контроля над бизнесом - юридическая оборона
-
• механизмы реализации контроля над предприятием - финансовая оборона
-
• правовые и практические аспекты применения основных технологий, использующихся при недружественных поглощениях, методы «черных» захватов
-
• организация работы службы безопасности по противодействию враждебному поглощению
-
• предупреждение захвата акций и долей компании
-
• локальные нормативные акты как средство противодействия недружественному поглощению компании Получить более подробную информацию о семинаре Вы можете у организатора -
- ЗАО «Бизнес-семинары»
E-mail:
Тел.: (495) 937-5809 Факс: (495) 363-0258