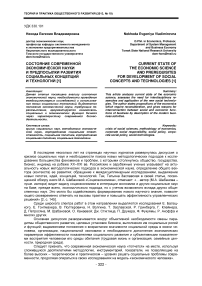Состояние современной экономической науки и предпосылки развития социальных концепций и технологий
Автор: Нехода Евгения Владимировна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Экономические науки
Статья в выпуске: 10, 2013 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена анализу состояния экономической науки, необходимости проведения междисциплинарных исследований и использования новых социальных технологий. Выделяются положения экономической науки, требующие переосмысления, аргументируется взаимосвязь социальных и экономических функций бизнеса через характеристику современной бизнес-деятельности.
Кризис социальных наук, методология экономической науки, корпоративная социальная ответственность, социальная политика, корпоративная социальная политика, социальные технологии
Короткий адрес: https://sciup.org/14934855
IDR: 14934855 | УДК: 330.101
Текст научной статьи Состояние современной экономической науки и предпосылки развития социальных концепций и технологий
Среди широкого спектра работ в этом направлении выделяются исследования Е. Балац-кого, Е. Гонтмахера, В. Полтеровича, Н. Волгина, Т. Заславской, Р. Гринберга, Г. Клейнера, Д. Петросяна, М. Шабановой, О. Канаевой; Дж. Стиглица, П. Друкера, Ф. Фукуямы, Р. Акоффа и многих других.
Основная дискуссия разворачивается вокруг объективной необходимости смены парадигмы общественного развития, целевых установок бизнеса, выполнения им социальных ролей и функций; выдвижением положения о возрастании значимости социальной среды в жизни человека, организации, национальной экономики и необходимости дополнения экономических параметров эффективности показателями социального развития и субъективными показателями восприятия человеком его среды обитания (трудовая жизнь и организация, семейные ценности, природная среда).
Следует признать, что современная экономическая наука «топчется» на месте, используя сложившуюся десятилетиями методологию, инструментарий, показатели, не позволяющие на более высоких – теоретическом и практическом – уровнях решать социальные проблемы современности, продолжая опираться в своих исследованиях на модель «экономического человека».
Большинство же исследователей признают положение о том, что «социальный ресурс – это первичный, задающий ресурс развития экономики и общества, а не второстепенный элемент» (Н. Волгин). Публикации последних лет оперируют терминами «социализация экономики» [3, с. 15; 4, с. 45], «социализация труда» [5, с. 30–31], «социализация капитала» [6, с. 22–23], указывают на кризис наемного труда и необходимость вовлечения работников не только в процесс принятия решений (концепция партисипативного управления), но и в социальный контекст отношений.
Более того, методология «мейнстрима» (доминирующее течение экономической мысли) и вместе с ней модель «экономического человека» оказались совершенно неспособными в объяснении многообразия форм и систем хозяйствования, наличия исторических альтернатив, влияния социокультурных факторов, однобоко трактующими многие социальные феномены (например, человеческий капитал) и проблемы. Связанно это в том числе и с тем обстоятельством, что сама социально-экономическая система существенно изменилась, то есть сам объект исследования, экономика и трудовая деятельность, бизнес все больше усложняются и ускоряются. Как совершенно справедливо отмечает А. Сидорович, следствием такого усложнения является многообразие национальных моделей и типов хозяйственных систем, что выразилось в «увеличении числа направлений, школ и подходов к изучению экономики» [7, с. 40].
В столице Аргентины Буэнос-Айресе с 31 июля по 4 августа 2012 г. состоялся Второй форум Международной социологической ассоциации (MCA, ISA). «Главным внутренним содержанием дискуссии было противоречие между американо-европоцентричным и самобытным (“аборигенным”), поддерживаемым социологами других стран (не входящих в “золотой миллиард”) пониманием социальной справедливости и демократии» [8, с. 142]. Лариса Вдовиченко также указывает на необходимость расширения междисциплинарных исследований, усиление внимания к экономической социологии (общий взгляд экономики и социологии труда на социальноэкономические проблемы), особенно в связи с возрастанием негативных последствий и явлений в условиях транснационализации производства и усиления культурных противоречий.
Получившая в последнее время теоретическое осмысление и практическое признание концепция корпоративной социальной ответственности (далее – КСО), по-нашему мнению, все-таки является внешне навязанной нормой. Для большинства как зарубежных, так и российских компаний она пока не стала внутренней потребностью и общей ценностью. Ее реализация по-прежнему связывается с максимизацией полезности и теми ограничениями (вынужденными издержками), которые накладываются на деятельность компании внутренними и внешними держателями интересов (давление со стороны государства, общественных организаций, давление потребителей, конкуренция за квалифицированных работников), и внешними инструментами признания (конкурсы, рейтинги и т.п.). Директор Агентства Социальные инвестиции Сергей Туркин подчеркивает, что в основе и HMA (Конкурентные Нематериальные Активы – инновации, репутация, бренд, знания, партнерские сети, возможности коммуникаций, лидерство), и КСО лежат отношения со стейкхолдерами, то есть навязанные извне принципы и технологии.
Не удовлетворяет вызовам XXI в. (долговые кризисы, усиление дифференциации доходов, проблемы эффективной занятости, экологические и техногенные катастрофы; виртуализация рынков и рабочих мест, приводящие к социальной изоляции и разрыву социальных связей, негативное влияние ИКТ на психическое и социальное самочувствие человека) и доминирующая более 20 лет концепция устойчивого развития, и используемый для страновых сопоставлений Индекс развития человеческого потенциала (далее – ИРЧП). В частности, Д. Бобров отмечает, ссылаясь, в свою очередь, на исследования В. Петрова [9] и Б. Юдина [10]: «Недостаточность составляющих ИРЧП и необходимость измерения, помимо предложенных, духовного (эстетического, художественного, социально-нравственного и другого) потенциала; необходимость уделять внимание проблеме защиты и гарантии прав человека, применение более широкой оценки человеческого потенциала в современной России» [11].
В одной из своих последних публикаций Е. Балацкий исследует «закономерности и парадоксы социальной эволюции» [12]. Автор, показывая усложнение общества, социальных преобразований и институтов, аргументирует разрыв частных и общих знаний, делает вывод о деградации отдельных людей, об увеличивающемся разрыве и антагонизме между экономикой и духовностью. Частные, специальные знания являются объектом купли-продажи, имеют рыночную ценность и капитализируются, что «играет решающую роль в формировании у индивидуумов стимулов к их приобретению. <…> В отношении общих знаний ситуация иная. Сами по себе они никому не нужны, а потому их нельзя продать. Но они используются для упорядочивания накопленных частных знаний и формирования институтов. Без таких периодических институциональных реформ социальная эволюция (а, значит, функционирование общества, государства, бизнеса, человека – прим. автора ) становится неэффективной и сопровождается ростом трансакционных издержек» [13, с. 141].
Данный анализ и ссылки на авторитетные исследования можно продолжить. Однако ясно одно – современная экономическая наука нуждается в переосмыслении собственной теории и методологии. Более того, отсутствие или недостаток таковой затрудняют исследования современных социальных концепций и технологий, к которым относятся и корпоративная социальная ответственность, и корпоративная социальная политика, и социализация бизнеса и выполнение последним новых социальных ролей и функций.
Итак, выделим основные устоявшиеся положения экономической науки, затрудняющие эффективное использование новых социальных технологий и институтов.
Во-первых, доминирование модели «экономического человека». «Экономический человек» – это, прежде всего, рациональный индивид, имеющий стабильные универсальные (стандартные) предпочтения, стремящийся к максимизации собственной выгоды, свободы выбора и количественной оценки альтернатив на основе критерия оптимальности (классическое соотношение «затраты-выгоды»). Индивид, «человек экономический», не только ориентируется на выгоду, но и оптимизирует свое поведение и хозяйственную деятельность по критерию максимизации полезности.
Во-вторых, экономическая теория исходит из эмпирической сложности исследования экономического поведения и базовых экономических категорий (ограниченность ресурсов, издержки, интересы, выбор, предпочтения) и влияния на них множества факторов. В целях «чистоты» анализа политические, социальные, культурные, правовые факторы исключаются из рассмотрения. Несмотря на попытки экономической науки ввести в теорию «человека социального» и заставить его действовать в рамках оптимизационных моделей (А. Маршалл) или использовать психологические подходы (например, склонность людей к сбережениям у Дж. Кейнса), принцип экономического индивидуализма остается базовым, модель экономического поведения человека и характеристика его как человека рационального признаются универсальными. Для анализа экономического поведения используются 4 основополагающих принципа: 1) принцип личной выгоды; 2) принцип полезности; 3) принцип минимизации издержек; 4) принцип максимизации выгоды.
В-третьих, как следствие, пренебрежение субъективными оценками людей в процессе принятия решений и недооценка в связи с этим междисциплинарных исследований. Согласно же новой экономической социологии, экономические отношения между людьми и организациями не существуют в абстрактной идеализированной модели рынка (как это представляет «мейнстрим»), а преломляются через социальные сети, социальную структуру. Марк Грановеттер подчеркивает, что на рынке труда присутствуют как экономическая, так и неэкономическая мотивация. В процессе поиска работы люди ищут «общения, одобрения, статусного признания и власти» [14, с. 50].
Понятие «социальной сети» ввел в 1954 г. британский социолог Дж. Барнс. Она (социальная структура) включает группу узлов, которыми являются социальные объекты (люди и организации) и связи между ними (социальные взаимоотношения). Экономическое поведение в данном контексте рассматривается как частный случай социального. Сам Грановеттер отмечает, что экономическая деятельность скорее контролируется группами людей, чем осуществляется изолированными индивидами. Классическим социологическим утверждением (положением) является укорененность (embeddedness) экономических и социально-ориентированных целях и структурах [15; 16; 17; 18]. Новая экономическая социология, по мнению Грановеттера, «будет стремиться к пониманию того, как современная экономическая наука может быть объединена с подходом социального конструирования институтов и какое должно быть при этом разделение между социологией и экономикой» [19].
Также следует отметить, что до сих пор не утихает полемика о том, чьей предметной областью являются традиционные и новые социальные технологии (например, корпоративная социальная политика) – экономики, социологии, социальной экономики, экономической социологии.
В-четвертых, игнорирование возрастания значимости человека в жизни современного общества, предприятия (организации в более широком смысле слова). Однако практика подтверждает, что производство новых видов продукции и услуг сегодня требует не стандартных решений, а, часто, иррациональных. Все это также предполагает применение и развитие социальных технологий, расширение социальных связей и отношений как между самими работниками, так и между работниками и работодателями, партнерами. В этой связи сегодня повышаются и нефинансовые (социальные, прежде всего) риски, которыми компаниям также нужно научиться управлять. В своем исследовании О. Канаева указывает, что «новая идеология социальной политики формируется под влиянием концепции устойчивого развития, общих социальных ценностей, повышения значимости качественных параметров жизни и усилением социальной независимости человека как от государства, так и от рыночных структур, повышением его устойчивости в условиях быстроменяющейся социально-экономической ситуации» [20].
В-пятых, традиционно в экономической науке «провалы рынка» компенсирует государство, которое является основным субъектом социальной политики. О. Канаева в цитируемом выше исследовании отмечает, что традиционно выделяют 3 уровня реализации социальной политики: федеральный, региональный, муниципальный. Между тем, в настоящее время усиливается ответственность компаний и человека (личная ответственность) за решение социальных проблем, усиливается принцип солидарной ответственности государства, организации и самого человека [21]. «Реализация указанного принципа предполагает рассмотрение социальной политики как системы, включающей в себя такие элементы или виды социальной политики, как социальная политика государства (федеральный, региональный и муниципальный уровни), социальная политика организаций и компаний (корпоративная социальная политика)…», повышение заботы и внимания человека к собственному социальному благополучию [22].
В-шестых, социальная политика как на уровне государства, так и на уровне компаний мыслится стереотипами советских времен. Содержание и общая концепция социальной политики не меняются на протяжении десятилетий.
В настоящее время лишь 5 % российских компаний управляют затратами на социальные нужды (при этом речь, как правило, не идет о целенаправленной социальной политике). Если прямыми затратами на персонал (фонд оплаты труда, расходы на подбор и обучение сотрудников, аттестацию и т.п.) большинство организаций стараются управлять, то расходы на «социалку» воспринимаются как неизбежные и неуправляемые потери. При этом само определение понимается и трактуется утрированно. «Связано это с тем, что в настоящее время социальная политика в России мыслится стереотипами, и вместо прицельных усилий, направленных на решение задач конкретного предприятия, компании используют высоко затратные проекты, дублирующие функции, выполняемые государством. На фоне стремления крупных компаний действовать в соответствии с национальными проектами в области социального обеспечения социальные инвестиции грозят превратиться в бездонную “черную дыру” для современного российского бизнеса» [23, с. 8].
И, последнее положение, на котором нам хотелось бы остановиться более подробно, – это продолжающаяся дискуссия об объективной взаимосвязи и взаимозависимости социальных и экономических функций бизнеса. Согласно традиционной парадигме (М. Фридман), главная цель бизнеса – служить интересам акционеров и максимизировать прибыль. Фундаментальная цель компаний остается незыблемой, несмотря на появление новых социальных концепций и технологий, о которых мы говорили выше (концепция корпоративной социальной ответственности, и смежные понятия – устойчивое развитие, социальное инвестирование, корпоративная социальная политика).
По-нашему мнению, данные концепции так и останутся внешне навязанными нормами, что не позволит использовать их эффективно, пока не произойдет коренное переосмысление бизнес-деятельности современных компаний, а вместе с ней и переосмысление методологии, на основе которой должны строиться современные экономические (социально-экономические) исследования.
Разделяя и развивая выводы С. Симпсон и С. Туркина, выскажем собственную точку зрения по вышеобозначенной проблеме. Итак, основная бизнес-деятельность современных компаний связана со следующими процессами [24]:
-
1. Развитие и улучшение продуктов/услуг, освоение новых рынков сбыта . Однако необходимо четко понимать, что любые товары сегодня – информация, знания, продукция, услуги – есть синтез и результат применения производственных и социальных технологий. Современная трудовая (в частности, научная) деятельность, производство знаний представляются, прежде всего, коллективными и невозможны без этической составляющей совместной деятельности, без создания уважительной и доверительной атмосферы в отношениях между людьми, без проявления самых лучших человеческих качеств. Знания по своей сущностной характеристике связаны с личностью человека, так как преломляются в его сознании, умственной творческой деятельности. Выдающийся американский ученый Ф. Махлуп отмечал, что производство знаний не заканчивается, пока они не стали достоянием других людей.
-
2. Работа с поставщиками и повышение ценности каналов поставок . Сегодня признанной во всем мире становится концепция создания ценности. Несмотря на то, что она относится к традиционной рыночной концепции, между тем она значительно влияет на изменение технологий работы в цепи поставок. Вовлечение партнеров в создание общей ценности и добавленной стоимости (ориентация на создание добавленной стоимости предполагает поддержку той деятельности, которая увеличивает ценность, в противовес тем действиям, которые увеличивают доход или уменьшают издержки) невозможно без использования развитых каналов
-
3. Набор, удержание и мотивация персонала, вовлеченность его и привлечение работников к управлению; повышение лояльности персонала к компании. Социальная функция современных трудовых отношений между работниками и работодателями показывает зависимость, заключающуюся в том, что сама занятость ориентирована не столько на достижение экономических, политических задач, но и на развитие человека как высшей ценности. То есть если сотрудник стремится к развитию и самореализации и в организации есть для этого соответствующая среда, атмосфера, то он и более активно принимает участие в принятии решений, оказывает влияние на выход из тех или иных проблем, задач.
-
4. Инновации и обучение, создание различных партнерств (партнерские сети, корпоративные коммуникации и т.п.). Вот что по этому поводу пишет Джон Пурдехнад из Пенсильванского университета: «До появления вездесущего Интернета большинство компаний полагалось на систему собственных внутренних инноваций. При этом идеи новых продуктов рождались и воплощались в специальных подразделениях по исследованиям и разработкам (R&D, Research and Development – типа конструкторских бюро). Однако по мере превращения сети Интернет в средство быстрого обмена информацией многие компании обнаружили, что гораздо больше компетентных экспертов находятся вне их стен. Например, количество патентов, полученных отдельными изобретателями и мелкими фирмами, увеличилось с 1970 по 1992 г. от 5 до 20 %. Поэтому неудивительно, что многие корпорации обратились к системе открытых инноваций, в которой собственные подразделения исследований и разработок стараются найти и использовать знания из внешних источников» [28, с. 22]. Ориентация бизнеса на «открытые инновации» и социальные сети также сделало актуальным развитие социальных технологий, выполнение бизнесом социальных функций (развитие среды обитания, повышение общекультурного уровня всех участников, морально-этической стороны инновационных процессов, реализацию корпоративной социальной политики).
коммуникаций, партнерских сетей, без определенной культуры партнерских отношений, выработки общей политики «разумного» потребления и управления совместными процессами.
Концепция создания общих ценностей значительно отличается от концепции КСО, так как в рамках данного подхода основные усилия компании направлены не на обеспечение соответствия определенному набору стандартных критериев, а на формирование определения социальной среды деловых отношений и операций. Например, новые инициативы Nestle связаны с ее бизнес-стратегией – принцип здорового питания и здорового образа жизни, использование водных ресурсов и развитие сельских территорий [25]. Большинству специалистов известен опыт компании Nestle в работе с поставщиками в Индии, Латинской Америке, Африке (Кении).
И. Гришин и многие другие исследователи отмечают возрастание значимости социальной среды в жизни человека, организации, национальной экономики [26], признание концепции качества жизни и ее составляющей – качества трудовой жизни. В настоящее время, как никогда, становятся актуальными не столько общефилософские вопросы о месте и положении человека в мире, обществе, сколько его места в повседневной жизни, в которой трудовая деятельность (работа) занимает отнюдь не последние позиции, и развитие на этой основе экономикосоциологической концепции баланса жизни и труда [27].
Исследуя парадокс социальной эволюции, Е. Балацкий резюмирует: «…капиталистическая система, базирующаяся на эгоистической концепции эволюции, порождает рыночные искажения в социальной системе, которые со временем становятся все больше. В настоящее время указанные искажения достигли такого масштаба, что угрожают существованию самой социальной системы. <…> Выход из создавшегося положения видится в изменении ментальности людей (добавим, в изменении бизнесом взглядов на собственные роли и функции – прим. автора ), замене старой дарвиновской доктрины эволюции, ставящей во главу угла феномен конкуренции, холистической доктриной (целое важнее части), делающей акцент на процессах сотрудничества и кооперации» [29, с. 146].
Таким образом, экономическая наука и вместе с ней традиционные методологические подходы, устоявшиеся социальные концепции и технологии должны претерпеть изменения и стать адекватными новым экономическим, социальным, политическим обстоятельствам и исследовать формирование человека (поведение) для жизни и работы в новой глобальной среде.
Ссылки и примечания:
-
1. Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ (Корпоративная социальная политика: модельное представление, оценка эффективности), проект № 13–32–01004.
-
2. Заславская Т. Социоэкономика как актуальное основание междисциплинарной интеграции (О книге М.А. Шабановой «Социоэкономика») // Вопросы экономики. 2013. № 5. С. 155–150.
-
3. Иванченко В. К новым социальным императивам России // Там же. 2008. № 2. С. 113–121.
-
4. Канаева О.А. Социальная политика компании: исходные посылки анализа // Вестник Санкт-Петербургского университета. 2011. Сер. 5. Вып. 4. С. 41–52.
-
5. Нехода Е.В., Старикова Т.А. Социализация труда: миф или реальность // VII Международная конференция Dynami-ka Naukowych Badan. 2011. 7–15 lipka 2011 roku (7–15 июля, Польша). Dynamika Naukowych Badan. Vol. 1.
-
6. Плетников Ю.К. Социализация капитала: проблемы и перспективы // Социологические исследования. 2007. № 12. С. 22–31.
-
7. Сидорович А. О взаимосвязи экономической теории и стратегии государства // Экономист. 2008. № 11. С. 38–43.
-
8. Вдовиченко Л.Н. Социальная справедливость и демократизация // Социологические исследования. 2013. № 2. С. 142–146.
-
9. Петров В.М. Человеческие потенциалы и их распределение: проблема измерений // Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода / под ред. И.Т. Фролова. М., 1998. С. 125–140.
-
10. Юдин Б.Г. Концепция человеческого потенциала // Знание. Понимание. Умение: информационный гуманитарный портал. URL: http://www.zpu-journal.ru/gum/prospects/articles/2007/Yudin/3 (дата обращения: 31.08.2013).
-
11. Бобров Д.В. Социально-экономические характеристики категории «человеческий потенциал» и их использование в практике корпоративной социальной политики // Науковедение: интернет-журнал. 2013. № 2. URL:
-
12. Балацкий Е.В. Закономерности и парадоксы социальной эволюции // Общественные науки и современность. 2013. № 2. С. 138–150.
-
13. Там же.
-
14. Грановеттер М. Социологические и экономические подходы к анализу рынка труда: социоструктурный взгляд // Экономическая социология: электронный журнал. 2011. Т. 12. № 2. С. 49–79.
-
15. Корниордос С. Проблемы экономической социологии (обзор новых идей) // Социологические исследования. 2011. № 1. С. 51–55.
-
16. Грановеттер М. Экономические институты как социальные конструкты: рамки анализа // Журнал социологии и социальной антропологии. 2004. Т. VII. № 1. С. 76–89.
-
17. Радаев В.В. Еще раз о предмете экономической социологии // Экономическая социология: электронный журнал. 2002. Т. 3. № 3. С. 21–34.
-
18. Грановеттер М. Экономическое действие и социальная структура: проблема укорененности // Экономическая социология: электронный журнал. 2002. Т. 3. № 3. С. 44–58.
-
19. Грановеттер М. Экономические институты ... С. 80.
-
20. Канаева О.А. Указ. соч. С. 49.
-
21. Григорьева И.А. Социальная политика: основные понятия // Журнал исследований социальной политики. 2003. № 1. С. 36–48.
-
22. Канаева О.А. Указ. соч. С. 50.
-
23. Гонтмахер Е. Российская модернизация: институциональные ловушки и цивилизационные ориентиры // Международная экономика и международные отношения. 2010. № 10. С. 3–11.
-
24. Симпсон С., Туркин С. Социальные измерения в бизнесе. М., 2001. 96 с.
-
25. Создавая общие ценности. Социальный отчет компании «Нестле Россия» 2011. М., 2011. 58 с.
-
26. Гришин И. Человеческое развитие: количественное измерение и процессы в мировой системе // Мировая экономика и международные отношения. 2010. № 7. С. 102–114.
-
27. Рождественская Е.Ю. Концепция баланса жизни и труда: уроки Европейской социальной политики и Российские перспективы // Журнал исследований социальной политики. 2011. Т. 9. № 4. С. 439–454.
-
28. Пурдехнад Д. Открытые инновации и социальные сети // Проблемы управления в социальных системах. 2012. Вып. 7. Т. 4. С. 22–27.
-
29. Балацкий Е.В. Закономерности и парадоксы социальной эволюции // Общественные науки и современность. 2013. № 2. С. 138–150.
Ekonomiczne nauki. Pizemysi Nauka I studia. 2011. С. 77–81.
(дата обращения: 31.08.2013).