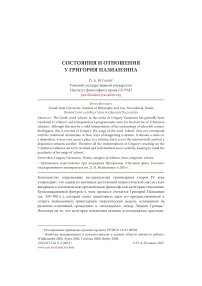Состояния и отношения у Григория Назианзина
Автор: Бутаков Павел Анатольевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Разное
Статья в выпуске: 2 т.9, 2015 года.
Бесплатный доступ
В работах Григория Назианзина греческое слово « schesis » обычно переводится как «отношение». При этом большинство исследователей полагает, что именно Григорий внедрил это слово в качестве ключевого термина для описания тринитарных отношений. Возможно, такая интерпретация была бы справедлива для творений других богословов IV века, но в случае Григория она ошибочна. Его употребление слова « schesis » не соответствует ни традиционной аристотелевской, ни стоической терминологии для категории отношения. У Григория это слово означает состояние или положение, возможно, даже состояние или положение в каком-либо отношении, но никак не само отношение. Поэтому все интерпретации учения Григория о тринитарных отношениях должны быть пересмотрены с учетом этой особенности употребления им слова « schesis ».
Григорий назианзин, троица, категория отношения, стоические категории
Короткий адрес: https://sciup.org/147103428
IDR: 147103428
Текст научной статьи Состояния и отношения у Григория Назианзина
* Публикация подготовлена при поддержке Программы «Научный фонд Томского государственного университета им. Д. И. Менделеева» в 2015 г.
Большинство современных исследователей тринитарных споров IV века утверждают, что одним из значимых достижений патристической мысли стало внедрение в теологическую аргументацию философской категории отношения. Кульминационной фигурой в этом процессе считается Григорий Назианзин (ок. 329–390 гг.), который сумел подытожить идеи его предшественников и создать полноценную тринитарную теоретическую модель, основанную на различии отношений «рождения» и «исхождения» между Лицами Троицы.2 Несмотря на то, что категория отношения активно использовалась христиан- скими теологами еще в III веке, именно Григорию ставится в заслугу то, что он сделал «отношение» «программным термином»3 для тринитарного богословия.
Для того чтобы проиллюстрировать применение категории отношения в тринитарном учении Григория, исследователи чаще всего приводят два наиболее характерных пассажа из его «Слов о богословии»:
Отец есть имя Божие, не по сущности и не по действию, но по отношению, какое имеют Отец к Сыну, или Сын к Отцу (οὔτε οὐσίας ὄνομα ὁ πατήρ … οὔτε ἐνεργείας, σχέσεως δὲ καὶ τοῦ πῶς ἔχει πρὸς τὸν υἱὸν ὁ πατήρ, ἢ ὁ υἱὸς πρὸς τὸν πατέρα, Or . 29.16; пер. П. С. Делицына).
Разность … взаимного соотношения производит разность и Их [Сына и Святого Духа] наименований (τῆς πρὸς ἄλληλα σχέσεως διάφορον, διάφορον αὐτῶν καὶ τὴν κλῆσιν πεποίηκεν, Or . 31.9; пер. П. С. Делицына).4
Утверждается, что в данных отрывках греческое слово «σχέσις» указывает на философскую категорию отношения и является тем самым термином, который и стал «программным» для последующих поколений теологов. Традиционно «σχέσις» так и переводят – «отношение»,5 и у читателей не возникает никаких сомнений в том, что в этих отрывках речь идет о тринитарных отношениях. Тем не менее, у нас есть веские причины полагать, что слово «σχέσις» в работах Григория не следует переводить как «отношение», что неизбежно приведет к пересмотру вопроса о том, какую на самом деле роль играет философская категория отношения в тринитарном учении Григория. Для того чтобы обосновать это заявление, мы сначала рассмотрим традиционную терминологию, использовавшуюся для обозначения категории отношения, а затем перейдем к анализу двух указанных пассажей Григория на предмет соответствия его словоупотребления традиционным способам указания на отношения.
Способы обозначения категории отношения
Отношение как особая философская категория была введена в философский оборот Аристотелем под названием «πρός τι», т. е. «то, что [говорится] применительно к чему-либо или кому-либо» или, если переводить буквально, просто «к чему-то» ( Cat . 7b15, Met . Δ, 15). Аристотель не вводит каких-либо других терминов, выраженных существительными, для обозначения данной категории и пользуется именно этой связкой предлога с неопределенным местоимением. Вещи, соотнесенные друг с другом, он называет так же просто: «τὰ πϱός
τι». С тех пор термин «πρός τι» считался отличительным признаком аристотелевского учения о категориях, хотя у более поздних перипатетиков, например, у Александра Афродисийского (III в. н. э.), уже изредка встречается словосочетание «πρός τι σχέσις».6 Стоики, начиная с Хрисиппа,7 тоже вводят свою категорию отношения (или «четвертый высший род») и свой термин для ее обозначения: «πρὸς τί πως ἔχον»8 (состояние по отношению к чему-либо). Наряду с данным техническим термином Хрисипп также иногда употребляет альтернативное выражение: «πρός τι σχέσις».9
Во время арианских споров IV века христианские богословы начинают все чаще обращаться к философской терминологии, и категория отношения становится весьма востребованным инструментом. Применение этой категории в богословии обусловлено тем, что имена «Отец» и «Сын» являются относительными понятиями, и на этом основании можно, вооружившись готовыми философскими утверждениями о свойствах отношений, делать выводы о Лицах Троицы: об их различии, со-вечности и даже о единстве их сущности.10 Примерно с середины IV века начиная с Георгия Лаодикийского11 рассуждения о тринитарных отношениях обретают терминологическую строгость, и в богословском обиходе прочно закрепляется словосочетание «πρός τι σχέσις», указывающее на отношение между Лицами Троицы. К концу IV века в работах Григория Нисского термин «πρός τι σχέσις» станет основанием для определения самого понятия «Лица» в Троице.12 Так, например, говоря о том, что его учение о посредничестве Сына не принижает природы и онтологического статуса Святого Духа, Григорий называет этот статус «природным отношением к Отцу».13
Итак, категория отношения в античности могла быть выражена тремя способами: либо Аристотелевским термином «πρός τι», либо стоическим «πρὸς τί πως ἔχον», либо общеупотребительным «πρός τι σχέσις». В последнем случае вместо неопределенного местоимения «τι» может стоять конкретный объект отношения, например, «πρὸς ἕτερον σχέσις», «πρὸς τὸ καλὸν σχέσις», «πρὸς τὸν πατέρα σχέσις» и т. п. В том случае, когда отношение симметричное, т. е. если отношение X к Y совпадает с отношением Y к X (например, у друзей), то может употребляться словосочетание «πρὸς ἀλλήλους σχέσις» – «отношение друг к другу».14
Каково же значение слова «σχέσις»? Какую функцию оно выполняет в словосочетании «πρός τι σχέσις»? В чем разница между «πρός τι» и «πρός τι σχέσις»? Принципиальной смысловой разницы здесь нет, но есть разница синтаксическая. Если обсуждаемое «отношение» является подлежащим или дополнением в предложении, то такое предложение будет проще понять, если на этом месте будет стоять какое-нибудь существительное или хотя бы причастие, а не странный технический термин «πρός τι» – «применительно к чему-то». Без существительного подобные высказывания звучат весьма неуклюже, например: «Титул “господин” указывает на применительно к чему-то». Несмотря на то, что общий смысл подобных фраз ясен, в них явно не хватает еще какого-нибудь вспомогательного слова, например: «Титул “господин” указывает на положение применительно к чему-то». Лучше всего, если это слово не будет нести дополнительной смысловой нагрузки, но будет лишь служить удобству восприятия предложения, сделает его чуть более благозвучным.
Аристотеля, который ввел в философский оборот термин «πρός τι», неблагозвучие не смущает, и он во избежание искажения смысла не использует никаких дополнительных слов. А вот Хрисипп уже добавляет к названию этой категории производные от глагола «ἔχω» («иметь, обладать») – либо причастную форму «ἔχον», либо существительное «σχέσις».15 Ни форма «πρὸς τί πως ἔχον», ни «πρός τι σχέσις» по смыслу ничем не отличаются от обычного «πρός τι». Но поскольку мало кто из философов был готов изъясняться на неестественном языке Аристотеля, эти формы стали более популярным способом обозначения категории отношения, причем форма «πρός τι σχέσις» даже получила распространение в нефилософских кругах. При этом слово «σχέσις» в словосочетании «πρός τι σχέσις» не имело никакой специальной смысловой нагрузки.
Еще одна функция слова «σχέσις» в сочетании с «πρός» – это указание на то, что речь идет о категории отношения в тех случаях, когда указан «адресат» отношения. Другими словами, если в философском тексте употребляются словосочетания с неопределенным местоимением «τι», например, «πρός τι», «πρὸς τί πως ἔχον» или «πρός τι σχέσις», то ясно, что речь идет об абстрактной категории. Но что если речь идет не о самом по себе абстрактном отношении, а об отношении к конкретному объекту? Одного предлога «πρός» будет недостаточно, и здесь употребление вспомогательного слова уже необходимо не только ради благозвучия, но и для того, чтобы указать, что речь идет о философ- ской категории. Таким образом, выражения «πρός τι» и «πρός τι σχέσις» означают «отношение к чему-либо вообще», их значения совпадают, и слово «σχέσις» здесь необязательно. Но для того, чтобы сказать, например, «отношение к отцу», без дополнительного слова уже не обойтись, и вместо «πρὸς τὸν πατέρα» придется употребить оборот «πρὸς τὸν πατέρα σχέσις». Получается, что, несмотря на то, что слово «σχέσις» само по себе не означает никакого отношения, в сочетании с предлогом «πρός» оно приобретает именно этот смысл.
Однако из вышесказанного вовсе не следует, что само по себе слово «σχέσις» без предлога не имеет никакого значения. Обычно им обозначается внешний вид: поза, облик, конфигурация. Что касается философии, то в стоицизме «σχέσις» является важным термином, указывающим на состояние вещи, причем изменяемое. Если согнуть деревянный прут, то «согнутость» – это и есть «схесис», изменяемое состояние; если человек сидит или выставил вперед кулак, то «сидение» или «выставление» также относятся к «схесисам».16 Согласно Плотину, стоики считают отношение («πρός τι») одним из «схесисов», которые не имеют ипостасного бытия.17 Таким образом, «схесис» – это изменчивое состояние вещи, наблюдаемое извне, и одним из видов такого состояния является то, в каком отношении данная вещь находится к другим вещам. Другими словами, любое «πρός τι σχέσις» – это «σχέσις», но далеко не всякое «σχέσις» – это «πρός τι σχέσις». Поэтому «σχέσις» с предлогом «πρός» переводится как «отношение», но переводить «σχέσις» без предлога «πρός» как «отношение» или даже «состояние отношения» – неправильно.
Теперь мы можем непосредственно перейти к разбору тех «программных» высказываний Григория Назианзина, которые были упомянуты в самом начале статьи. Перед нами стоит вопрос: правы ли все те исследователи, которые утверждают, что в этих пассажах Григорий использует философскую категорию отношения, обозначая ее термином «σχέσις», и если нет, то как же на самом деле следует интерпретировать данный термин?
Oratio 29.16
Итак, в третьем «Слове о богословии» ( Or . 29) Григорий утверждает, что «Отец» – это имя, которое обозначает не сущность и не действие, но «σχέσις» и «τὸ πῶς ἔχει», которое (или которые) у отца к («πρός») сыну или у сына к («πρός») отцу.18 Как же следует понимать эту фразу? Здесь указаны два референта имени «Отец»: «σχέσις» и «τὸ πῶς ἔχει (πρός…)». Первый – это уже знакомое нам слово, которое означает либо отношение, либо некое состояние, в зависимости от того, связано оно с предлогом «πρός» или нет. Второй – это упомянутый выше традиционный стоический термин для категории отношения. Переводчики, игнорируя соединительный союз «καί», сводят смысл двухчастного выражения «σχέσεως δὲ καὶ τοῦ πῶς ἔχει» к одному слову «отношение» или фразе «отношение, которое имеет [Отец к Сыну]».19 В результате в большинстве переводов стоит нелепое утверждение, что «Отец» – это название отношения отца к сыну или сына к отцу. Для того чтобы более точно передать смысл высказывания Григория, необходимо рассмотреть два возможных варианта: либо предлог «πρός» и все, что следует за ним, относится к обоим указанным референтам имени «Отец», либо только ко второму, ближайшему к нему в предложении. С точки зрения грамматики здесь допустимы оба варианта.
-
1) Если предлог «πρός» относится к обоим референтам – и к «σχέσις», и к «τὸ πῶς ἔχει», тогда и первый, и второй являются двумя традиционными терминами, обозначающими философскую категорию отношения: «πρός τι σχέσις» и «πρὸς τί πως ἔχον». В таком случае получается, что Григорий использует два равнозначных синонима (в риторических целях), которые при переводе можно заменить одним словом «отношение», как и делает большинство переводчиков. И тогда в этом высказывании не остается ничего, кроме строгого философского определения: «X – это название отношения X к Y и Y к X». Но как же тогда понимать то, что «Отец» – это не только имя отношения отца к сыну, но и отношения сына к отцу? Ни аристотелевская, ни стоическая концепции отношения не позволяют интерпретировать отношение отцовства так, как если бы оно одинаково высказывалось и об отце, и о сыне, ведь отношение сына к отцу – это «сыновство», а не отцовство. Поэтому этот вариант, когда предлог относится к обоим референтам, является вполне приемлемым с точки зрения ясности терминологии, но неприемлемым с концептуальной, смысловой точки зрения.
-
2) Другой возможный вариант, в котором слово «σχέσις» грамматически не связано с предлогом «πρός», представляется более предпочтительным. В нем второй референт остается тем же, что и в первом варианте: отношением отца к сыну или сына к отцу, но здесь «имя» и «отношение» уже связаны не напря-
- мую, а посредством первого референта. Этот первый референт – не отношение («πρός τι σχέσις»), как в первом варианте, а просто некое «σχέσις». Получается смысловая связка: «имя»–«σχέσις»–«отношение (между отцом и сыном)». Что же Григорий имеет в виду под словом «σχέσις»? Ранее было сказано, что слово «σχέσις» без предлога обычно обозначает некое состояние, наблюдаемое извне. Если же обратиться к тому, как употребляет это слово сам Григорий, то станет ясно, что в его творениях слово «σχέσις» без предлога «πρός» (которое встречается лишь несколько раз) означает что-то вроде «состояния в отношении», т. е. не само отношение, а некий статус или положение во взаимоотношении.20 Поэтому «Отец» – это не название отношения (что следовало бы из нашего первого варианта и что не имеет смысла), а название того статуса, который Он занимает в рамках взаимоотношения, связывающего его с Сыном – отношения «рождения» (γέννησις), – при этом название самого отношения здесь не указа-но.21 Если принять такую точку зрения, то фраза Григория должна звучать так: «Отец – это имя не сущности, и не действия, но его положения в отношении отца к сыну и сына к отцу». Такое прочтение допустимо и, в отличие от первого варианта, является вполне осмысленным.
Таким образом, данный пассаж, как и утверждает большинство исследователей, действительно указывает на то, что Григорий Назианзин применяет к Троице категорию отношения, и в нем действительно фигурирует слово «σχέσις» как некий ключевой термин, связанный с отношениями. Но, вопреки мнению исследователей, Григорий рассуждает не о самом отношении, но о положении Отца во взаимном отношении с Сыном – отношении «рождения», а слово «σχέσις» означает не само отношение, а положение в нем.
Oratio 31.9
В пятом «Слове о богословии» (Or. 31) Григорий задается вопросом о том, на каком основании можно рассуждать о различии между вторым и третьим Лицами Троицы – между Сыном и Святым Духом. Они едины по сущности, оба происходят от Отца, поэтому не отличаются ни по природе, ни по происхождению. И тогда он произносит ту фразу, которая считается его вторым «программным» заявлением: разница между ними происходит из-за различия «τῆς πρὸς ἄλληλα σχέσεως».22 Это словосочетание обычно переводят как «взаимные отношения», и, в таком случае, смысл утверждения Григория должен быть, по-видимому, следующим: между Сыном и Духом есть некое взаимное отношение, и их положения или роли в этом взаимоотношении не идентичны, из чего и следует разница между ними. Казалось бы, этот перевод вполне соответствует тому, о чем говорилось выше: слово «σχέσις» вместе с предлогом «πρός» обозначает отношение, а возвратное местоимение «ἄλληλα» указывает на обоюдную направленность этого отношения. Тем не менее, такой перевод все же является проблематичным по нескольким причинам. Во-первых, если бы здесь речь действительно шла о чем-то взаимном между Сыном и Духом, то было бы более уместно использовать местоимение не среднего, а мужского рода: «πρὸς ἀλλήλους». Во-вторых, если отношение взаимное, то в нем не должно быть различий, т. е. «πρὸς ἄλληλα» употребляется только в тех случаях, когда отношение симметричное, когда отношение X к Y идентично отношению Y к X. Григорий же говорит о том, что в этом «πρὸς ἄλληλα σχέσις» есть различие (διάφορον). В-третьих, если бы Григорий ввел некое неравенство во взаимном отношении между Сыном и Духом, то это могло бы стать поводом обвинить его в ереси субординационизма. Ну и, наконец, самое важное, четвертое возражение заключается в том, что, согласно тринитарной теории Григория Назианзина, между Сыном и Духом нет никакого отношения, а отношения в Троице есть только с Отцом – рождение и исхождение23. Что же тогда означает загадочная фраза «πρὸς ἄλληλα σχέσις»?
Для начала следует сразу же заметить, что во всех своих работах Григорий Назианзин использует слово «σχέσις» либо без предлога «πρός», либо, если с этим предлогом, то обязательно в связке «πρὸς ἄλληλα σχέσις», и никак иначе.24 Причем местоимение «ἄλληλα» употребляется только в среднем роде вне зависимости от рода тех существительных, о которых идет речь. Складывается впечатление, что словосочетание «πρὸς ἄλληλα σχέσις» у Григория является неким устойчивым целостным термином, не допускающим изменения рода местоимения. Для того чтобы прояснить смысл данного термина, необходимо рассмотреть другие пассажи, где Григорий применяет данное словосочетание.
Иногда Григорий использует выражение «πρὸς ἄλληλα σχέσις» говоря о том, что некое множество элементов можно рассматривать либо в целостности, либо по отдельности. Например, прекрасный мир, сотканный из морей и суши, лесов и рек, достоин восхищения при рассмотрении как «πρὸς ἄλληλα σχέσις», так и по отдельности (ка0’ EKaoTOv).25 Также достойны хвалы и Лица Троицы, познаваемые и «про^ аХХпХа ox^ai^»> и сами по себе (каб’ Ёаито Eкаатov).26 Рассуждая о гармонии частей тела, Григорий говорит, что различные впалые и выступающие части образуют нечто прекрасное, когда рассматриваются «πρὸς ἄλληλα σχέσις».27 Описывая неизменный порядок (τάξις) звезд на небе, Григорий перечисляет их движение, величину, яркость и «πρὸς ἄλληλα σχέσις».28
Попробуем извлечь смысл фразы «πρὸς ἄλληλα σχέσις» из перечисленных высказываний. Она всегда применяется к некоему целостному множеству (элементам ландшафта, Лицам Троицы). Она подразумевает не просто собирательное описание элементов множества, но их взаимосвязь (красота пропорции частей тела) и их взаимное расположение (звезды на небе). Складывается впечатление, что речь идет о внешнем облике расположения элементов множества, их общей расстановке относительно друг друга, о визуальной композиции.
Корректно ли будет переводить словосочетание «πρὸς ἄλληλα σχέσις» как «взаимное отношение»? Видимо, нет. Расположение звезд на небе не является их взаимоотношением, и гармония частей тела не подразумевает каких-либо взаимных отношений между ними, за исключением того, что в совокупности они составляют нечто красивое. В текстах Григория фраза «πρὸς ἄλληλα σχέσις» не имеет ничего общего с категорией отношения в аристотелевском или стоическом смысле. Как же тогда понять его слова о том, что различие между Сыном и Духом – это различие «πρὸς ἄλληλα σχέσις»? По-видимому, речь идет о том, что у Сына и Духа как бы разное положение в общей композиции Троицы. Григорий мысленно представляет общую картину Троицы, ее схему, и в ней каждое из Лиц занимает свое место, вместе составляя общую гармонию. В этой общей схеме у Сына и Духа, действительно, разные отношения с Отцом: у Сына «рождение», а у Духа «исхождение». Вот только в данном конкретном пассаже Григорий ничего не говорит ни о рождении, ни об исхождении, и слово «σχέσις», как мы убедились, здесь тоже не обозначает никакого отношения.
Заключение
Таким образом, нам удалось показать, что в работах Григория Назианзина слово «σχέσις» нигде не обозначает категории отношения. Использованное без предлога оно имеет значение статуса или положения в рамках некоего отношения, а в сочетании «πρὸς ἄλληλα σχέσις» оно означает расположение элементов в общей картине, место в композиции. А те высказывания Григория, которые в исследовательской литературе расцениваются как «программное» внедрение термина «σχέσις» в тринитарную теологию, не являются ключевыми для понимания роли категории отношения в его учении о Троице.
Список литературы Состояния и отношения у Григория Назианзина
- Бутаков, П. А. (2012) «Категория отношения в раннехристианской триадологии», //Вестник НГУ. Серия «Философия» 10.4, 134-141.
- Сидоров, А. И., ред. (2007) Святитель Григорий Богослов, Архиепископ Константинопольский. Творения в 2-х томах. Москва. Т. 1.
- Столяров, А. А., сост. (1999) Фрагменты ранних стоиков, в 3-х т. Москва. Т. 2, ч. 1.
- Arnim, H. von, ed. (1903-1924) Stoicorum veterum fragmenta, vols. 1-4. Leipzig.
- Ayres, L. (2006) Nicaea and its Legacy. An Approach to Fourth-Century Trinitarian Theology. Oxford.
- Beeley, C. A. (2008) Gregory of Nazianzus on the Trinity and the Knowledge of God. Oxford.
- Butakov, P. (2014) “Relations in the Trinitarian Reality: Two Approaches,” ΣΧΟΛΗ (Schole) 8.2, 505-519.
- Long, A. A., Sedley, D. N. (1987) The Hellenistic philosophers, vols. 1-2. Cambridge.
- Migne, J.-P., ed. (1857-1866) Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca, vols. 1-166. Paris.
- Norris, F. W., comm., L. Wickham, F. Williams, trans. (1990) Faith Gives Fullness to Reasoning: The Five Theological Orations of Gregory Nazianzen. Leiden: Brill.
- Turcescu, L. (2008) “Divine Persons in Gregory of Nyssa and Gregory of Nazianzus,” M. Cassin, H. Grelier, eds. Grégoire de Nysse: La Bible dans la construction de son discours. Actes du Colloque de Paris, 9-10 février 2007. Institut d'Études Augustiniennes, Paris: 287-299.
- Widdicombe, P. (2000) The Fatherhood of God from Origen to Athanasius. Oxford.