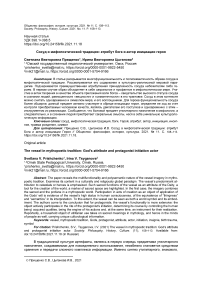Сосуд в мифопоэтической традиции: атрибут бога и актор инициации героя
Автор: Светлана Викторовна Прищенко, Ирина Викторовна Цыганова
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: Культура
Статья в выпуске: 11, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается многофункциональность и полисемантичность образа сосуда в мифопоэтической традиции. Рассматривается его содержание в культурно-религиозной мировой парадигме. Подчеркивается преимущественная атрибутивная принадлежность сосуда небожителям либо героям. В первом случае образ объединяет в себе сакральное и профанное в мифопоэтическом мире. Участие в актах творения в качестве объекта приложения воли богов – свидетельство высокого статуса сосуда в сознании людей, равноценности «вещности» и «семантичности» в его трактовке. Сосуд в этом контексте можно считать одновременно и символом мира, и его воплощением. Для героев функциональность сосуда более обширна: данный предмет активно участвует в обряде инициации героя, определяя ее ход за счет контроля приобретаемых человеком качеств, являясь двигателем его поступков и одновременно с этим – инструментом их реализации. Сообщается, что бытовой предмет утилитарного назначения в мифологии, а следовательно, и в сознании людей приобретает сакральные смыслы, неся в себе уникальную культурологическую информацию.
Сосуд, мифопоэтическая традиция, боги, Герой, атрибут, актор, инициация, инсигния, травма рождения, символ
Короткий адрес: https://sciup.org/149136617
IDR: 149136617 | УДК: 398.1+398.5 | DOI: 10.24158/fik.2021.11.18
Текст научной статьи Сосуд в мифопоэтической традиции: атрибут бога и актор инициации героя
эстетического назначения предмета, его полифункциональность делают его фактом человеческой культуры (Байбурин, 1981). Через предметную, вещную среду в архаических обществах, с одной стороны, происходили контакты человека с миром, с другой – осуществлялась фиксация и передача установок традиционного мировоззрения (Львова и др., 1988: 197).
Одним из наиболее часто встречающихся артефактов архаических обществ является сосуд. Более утилитарный предмет представить себе сложно. В большинстве случаев он использовался как емкость для хранения и термической обработки пищи. Орнаментированная керамическая посуда является культурным маркером в археологии. Однако при обращении к мифологическим сюжетам мы видим, что сосуды помимо практического значения могут иметь сакральное, в соответствии с которым они выступают частью мифологического пространства.
Вопрос о особых функциях посуды в архаических обществах неоднократно поднимался в работах Е.В. Антоновой, А.К. Байбурина, Э.Л. Львовой, И.В. Октябрьской, А.М. Сагалаева, М.С. Усмановой, Е.В. Переваловой, Ю.В. Балакина и др. Исследователями отмечены сакральные функции сосуда как оберега, символа плодородия, мерила времени, причем особое внимание обращается на схожесть характеристик у разных народов, что позволяет предположить, что некоторые функции сосудов являются архетипичными в значении первичных схем образов, которые воспроизводились людьми бессознательно и находили выражение в мифах и верованиях. В данной статье на широком мифологическом материале мы попытаемся выявить некоторые архетипичные функции сосуда в отношении некоторых его обладателей – богов и героев.
В мифологии и иконографии богов различного уровня мы можем заметить некоторую закономерность: многие из них изображались с сосудом в руках. В первую очередь, это боги-творцы, демиурги: Брахма и Вишну, Индра в древнеиндийской мифологии. Брахма представлялся восьмируким, в них он, как правило, держал веды, жезл, жемчужное ожерелье, лук. Среди прочих предметов был и сосуд с водой из Ганга. Всепроникающий Вишну также обычно изображался с сосудом из золота, накрытым серебряной крышкой. Бог войны, грома и молний Индра на картинах держит в руках священный сосуд с напитком бессмертия – амритой. Подобные образы мы можем обнаружить и в других мифологиях, что доказывает если не всеобщность, архетипичность сакрального образа сосуда, то, по крайней мере, широкое его распространение. Так, Сяхыл-То-рум-ойка – бог-громовежец в мифопоэтической картине мира обских угров, который передвигается между мирами на оленях, возил в своей повозке огромный котел с водой. Когда он ударял вожжами, рождались молнии, а из котла шел дождь.
С сосудами изображались также боги воды, мира, богатства, в том числе римский Гений, греческий Плутос.
Нередко в мифологии сосуд являлся атрибутом богини-матери. Древнешумерской богине Аруру посвящен гимн следующего содержания:
«Воистину вручен ей лазуритовый сосуд,
В котором заключено последующее рождение»1.
Греческую Эйрену и римскую Бону Деа в качестве атрибута сопровождал рог изобилия.
Е.В. Антонова провела интересное исследование сосудов для жидкостей из числа археологических памятников Двуречья. Анализируя генезис их форм, она обращает внимание на то, что изначально некоторые сосуды в Двуречье имели антропоморфный облик и являлись символами плодородия, считаясь воплощением божества. Однако постепенно происходило отделение «антропоморфной оболочки» от предмета, и в итоге вместо сосуда как воплощения божества возник образ бога с сосудом в руках (Антонова, 1986).
Согласно верованиям, выполняя манипуляции с сосудом, боги создают и преобразуют мир. В архаическом мифопоэтическом сознании выражение «Не боги горшки обжигают» не всегда соответствует действительности. Некоторые из небожителей как раз «замечены» за этим занятием. Древнеиндийский бог-мастер Тваштар сковал для богов кубок camasa, из которого боги пили священную сому/хаому, поддерживающую их бессмертие. Божественный мастер западносемитской мифологии Кусар-и-Хусас, грузинский бог-кузнец Пиркуши тоже делали бронзовые и серебряные чаши для других богов. При необходимости сосуды небожители могли получить, отняв их у людей или других сущностей. Так, скандинавский бог-громовержец Тор добыл «огромный котел, котлище великий, с версту глубиной» для пира богов у великана Хюмира2.
Об акте сотворения мира как сосуда повествует сюжет о богинях-женах в древнеиндийской мифологии: «Великая Адити с силой, обеими руками, с ловкостью формует укху»; «Адити – это земля. С помощью Адити копает он землю, чтобы не повредить Землю, с помощью Адити формует укху»; «Дхишана – это знание, богиня... должна тебя в доме земли зажечь», «женщины-богини должны тебя обжечь»; «Варутри – это день и ночь... Варутри – обе богини должны обжечь тебя, укха. Денно и нощно они его обжигают» (Кузьмина, 1986: 177). Е.Е. Кузьмина соотносит формовку горшка с актом творения, изготовление каждой ленты сопровождается заклинанием: «Поднимись! Стань крепким! Будь большим! Стань прямо! Ты устойчив, ты стоишь на прочном основании». По Шатапатха Брахмане (6, 5; 4, 17) и Шукла Яджурведа Самхита (11, 59), налепной валик – «это пояс Адити», это «шнур, врученный Варуной для жертвоприношения»; налепляют этот шнур в верхней трети кругом укхи – «это страны света»; от него спускаются вертикально вниз четыре глиняных валика, заканчивающихся налепными шишечками, – «боги, сформовав укху, – жизненные пространства – этими сосками надоили себе все желания... укха с четырьмя сосками – это корова с четырьмя сосками» (Кузьмина, 1986: 177).
О творении мира при помощи сосуда свидетельствует и сюжет из мифологии аганских хантов. Бог Торум собрал своих дочерей, чтобы распределить между ними земные обязанности. Омəстə-аңки села на семиушковый котел, тот начал вращаться, вокруг пошли холмы и превратились в бугристую поверхность земли (Перевалова, Данилова, 2020: 118).
При помощи сосуда боги не только творят мир, но и делают некоторые ресурсы неисчерпаемыми. Так, в якутских олонхо, посвященных празднику Ыысах (изобилие), связанному с культом плодородия, говорится об этом:
И вот, почитаемая везде, Небесная жизнедарящая мать – Ньэлгэлдин Иэйэхсит… Белой, как молоко, Кобылицей оборотилась… Кобылица небесная, встав на дыбы… Полморды сунула в полный турсук, В бурлящий кумысный мех… И широкий чан…
Сам собой наполнился до краев1.
Известны боги – хранители сосудов и покровители гончарства. Это иранский Фарн и уже упомянутый выше грузинский Перкуши.
Сосуд может маркировать сакральное пространство. В одном из гимнов Ригведы говорится:
Между двумя чашами мироздания, имеющими счастливое рожденье.
Божественными, движется, как положено, чистый бог Сурья2.
Через горловину котла божество из пантеона обских угров Мир-Сусне-Хум перемещается из мира богов в мир людей: «…О князь,… окружающий страну семи князей,… О, если бы ты показался над отверстием дымящегося горшка, дымящегося котла». Чтобы крылатый конь Мир-Сусне-Хум не осквернял свои копыта соприкосновением с землей при облете мира, по внешним углам жилища ставили четыре серебряных блюдца (Перевалова, Данилова, 2020: 117).
Сосуды также могут выступать атрибутами духов и других высших сил второго порядка. В таджикской мифологии старуха Кемпир – женский дух природных явлений – имела котел, в котором она варила людей, а корейские квисины использовали горшки в качестве фетишей.
Как видим, для богов сосуды – это атрибуты, маркирующие их принадлежность к категории небожителей и используемые ими в своей деятельности, не подвластной простым смертным, в частности, в процессе сотворения мира.
По отношению к мифологическим персонажам, превосходящим простых людей, но стоящих на ступеньку ниже богов, – героям – сосуды выполняли другие функции и, как образы, наполнялись другим содержанием. В работе мы будем использовать определение героя, данное Дж. Кэмпбеллом. По его мнению, это «человек, который отваживается отправиться из мира повседневности в область удивительного и сверхъестественного: там он встречается с фантастическими силами и одерживает решающую победу: из этого исполненного таинств приключения герой возвращается наделенным способностью нести благо своим соплеменникам» (Кэмпбелл, 1997: 23). Самой распространенной мифологической ситуацией, в которой герои оказываются связанными с каким-либо сосудом, является процесс добычи этого сосуда наряду с другими значимыми предметами (огонь, пояс, оружие) у богов или в стране предков для людей. Процесс добывания сакрального объекта всегда требует от героя приложения недюжинных усилий или проявления остроты ума, хитрости, что можно проиллюстрировать примером древнеиндийского Ангираса, танзанийского Ишоко, Ру-ханга (банту), айнского Айона, ненецких Юна-ню, Иба-сей-Ню и Пий-сей-Ню.
Отдельно следует сказать о роли сосуда в процессе социализации героя. По мнению Отто Ранка, ключевым моментом здесь следует считать появление его на свет и получение героем так называемой «травмы рождения», или первичной травмы (Ранк, 1997). Преодолевая ее последствия на протяжении жизни, он и становится собственно Героем. В ряде мифологий само рождение будущего героя напрямую связано с сосудом. Древнеиндийский Агастья родился в сосуде. В этот сосуд боги Митры и Варуны при виде апсары Урваши излили свое семя. Герой-первопредок племени чинов (Бирма) буквально вылупился из яйца, которое солнце оставило на холме. Это яйцо было положено в сосуд, который женщина, его нашедшая, поставила у огня.
Следующий важный эпизод в жизни любого героя – обряд инициации, точнее – его лими-нальная стадия, которая подразумевала физические испытания человека, а после их прохождения – смену социального или иного статуса, «выход» из прежнего состояния (Кэмпбелл, 1997: 7–8). Для того чтобы совершить полагающиеся по статусу подвиги, герой нуждается в сверхъестественной силе, которую он лишь отчасти приобретает при рождении. Процесс же инициации дает ему возможность получить недостающее. Добровольный уход или изгнание из социума, странствия, тяжелые испытания – все это должен пережить герой, прежде чем он обретет свое новое состояние. Одним из таких испытаний становится заточение в сосуд и отправление его в странствие по воде. Чаще всего в мифологии для этих целей использовалась плетеная корзина. В ней были брошены в море Саргон аккадский, Моисей, древнеиндийский Карна, персидский Кир, римские Ромул и Рем. А вот скандинавский Зигфрид был заключен в стеклянный сосуд, который вынесло по реке в море к скалам, а затем отлив оставил его на берегу. В этом сосуде Зигфрид рос, пока сосуд не лопнул. Древнехеттская Каниша рождает тридцать богатырей-близнецов и, напуганная количеством, помещает их в горшки, которые сплавляются по реке к Морю Цальпы (Черное море).
В рамках обряда инициации сосуд зачастую выступал также средством «диагностики» истинности храбрости героя. В ирландском «Похищении быка из Куальнге» говорится о золотой чаше необычайно искусной работы. Добыта она была в волшебной стране (стране мертвых?). Если сказать перед этой чашей три слова лжи о своих подвигах – она рассыплется на части и соберется вновь при трех произнесенных словах правды. О подобной чаше – Уацамрнге в осетинском эпосе Ж. Дюмезиль пишет: «Эта чаша либо неиссякаема, постоянно наполнена вкуснейшими напитками... либо же она собственно то, что и означает ее название – “указующая героя”: на своих пирах, когда Нарты хвастают ратными подвигами и рассказывают, сколько каждый убил врагов, чаша поднимается к губам самого отважного» (Дюмезиль, 1976: 45). Сходные сюжеты есть в иранском Сказании о Сиявуше, Старшей Эдде.
Завершающий этап социализации – смерть и возрождение героя – также связаны с сосудами. У некоторых народов Сибири – кетов, нганасан, алтайцев – распространен обряд вываривания в котле умершего героя/шамана с его последующим воскрешением. В одной из хантыйских сказок «Пор не и Мось не – снохи Сантал-ики» условием прозрения героини выступает вытопленная из снега вода, вскипяченная в котле. В селькупском сказании для оживления двух братьев, съеденных медведицей, оставшийся в живых третий брат сварил ее в медном котле. После этой процедуры братья воскресли, а части медведицы стали звездами в созвездии Большой Медведицы (Перевалова, Данилова, 2019: 160).
Сосуд в мифологии тесно связан с оружием, являющимся неотъемлемой составляющей образа героя. Часто встречается сюжет, когда с враждебными силами нельзя справиться обычным оружием и приходится пользоваться иными способами. Например, хантыйский герой Си-ив Нум Ню борется с великаном при помощи котла, притом что в рукаве у него спрятана сабля. Си-ив Нум Ню разбрасывает костер, хватает кипящий котел и обваривает из него великана. Затем вынимает саблю, спрятанную в рукаве, и разрубает великана на семь кусков. В этом случае функция котла как сосуда, использованного вместо оружия, представляется определенной – это восполнение недостающей силы героя. Надо отметить и тот факт, что в героическом эпосе только два предмета имеют собственные имена – это оружие и сосуд – Грааль, Уацамонга, Иарангуал. И это обстоятельство еще более содержательно сближает их мифологическое содержание.
Завершение жизненного пути любого героя – его славная смерть и пышное захоронение. И в погребальном инвентаре мы снова находим оружие и сосуды (Беовульф, Ирландский эпос, Мабиногион).
Известно некоторое количество эпизодов, причем очень разновременных, когда сосуды выступали в качестве инсигний – внешних знаков царской, королевской, императорской и иной власти. Интересной в этом отношении является легенда о происхождении скифов, дошедшая до нас в изложении Геродота. После смерти первочеловека Таргитая скифией управляли три брата, между которыми шла борьба за власть. В один момент с неба упали три золотых предмета – плуг с ярмом, секира и чаша. При попытке подойти к ним двух старших братьев золото воспламенилось. Когда же к ним направился младший Колоксай, огонь погас, что позволило ему обрести эти символы власти1. Это же значение имеют и сердоликовая крабица русских князей, и потир из Четвертого коронационного чина в средневековой Англии.
Общеизвестна также и не менее показательна легенда, восходящая к началу XIII в. и описывающая «историю происхождения мироносного сосуда, использовавшегося в церемонии помазания на царство» (Федоров, 2011: 286). К. Хардаймент отмечает, что хрустальный флакон, заключенный в массивном золотом орле, был «подарен святому Томасу Бекету самой Девой Марией, которая сказала ему, что это масло предназначено для помазания будущего короля Англии, который вернет утраченные владения Нормандии и Аквитании и отвоюет Святую Землю у неверных». А первым английским королем, которого на коронации помазали чудесным маслом, был Генрих IV (Hardyment, 2006: 79). Как пишет С.Е. Федоров, к середине XV столетия «св. сосуд Томаса Беккета обрел свое место в самой церемонии: его стали хранить в Вестминстерском аббатстве и именно оттуда доставляли для коронации. Сосуд нес епископ в парадных одеждах, перед которым представители капитула держали крест и свечи, и именно таким образом процессия доставляла святыню к алтарю в соборе св. Петра. Как только шествующие достигали короля, сидевшего в кресле напротив сооруженного по торжественному случаю подиума, он вставал и приветствовал доставленную часть коронационных инсигний» (Федоров, 2011: 288).
Таким образом, мы видим, что сакральные функции сосуда являются универсалиями общемировой культовой практики. Бытовая, на первый взгляд, вещь обнаруживает поразительную многофункциональность и полисимволичность. Через сосуд как атрибут божества происходило соединение сакрального и профанного в мифопоэтическом мире. Описание божественных манипуляций сосудом в актах творения – свидетельство высокого статуса последнего, равноценности «вещности» и «семантичности» в его трактовке. Сосуд в этом контексте можно считать одновременно и символом мира, и его воплощением. В обряде инициации героя сакральная функция сосуда приобретает двойную трактовку. С одной стороны, сосуд выполняет охранную функцию, скрывая героя в себе от злых сил. С другой стороны, этот же сосуд является местом перерождения человека в собственно Героя, понуждает его к определенным действиям, контролирует приобретаемые им качества и вознаграждает за результат. Кроме того, в дальнейшем сосуд переходит в статус инсигний, символизируя принадлежность своего хозяина к когорте избранных.
В целом можно сказать, что мифопоэтическая традиция репрезентует сосуд в двух принципиально значимых статусах: как атрибут Бога и как актора инициации героя, каждый из которых придает его образу особые черты и преобразует бытовой предмет в сакральный инструмент.
Список литературы Сосуд в мифопоэтической традиции: атрибут бога и актор инициации героя
- Антонова Е.В. К исследованию места сосудов в картине мира древних земледельцев // Восточный Туркестан и Сред-няя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. М., 1986. С. 77–91.
- Байбурин А.К. Семиотический статус вещей и мифологий // Сборник музея антропологии и этнографии. Л., 1981. С. 215–226.
- Дюмезиль Ж. Осетинский эпос и мифология. М., 1976. 276 с.
- Кузьмина Е.Е. Гончарное производство у племен андроновской культурной общности (об одном археологическом аспекте проблемы происхождения индоиранцев) // Восточный Туркестан и Средняя Азия в системе культур древнего и средневекового Востока. М., 1986. С. 152–182.
- Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. М. ; Киев, 1997. 378 с.
- Львова Э.Л., Октябрьская И.В., Сагалаев А.М., Усманова М.С. Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири. Пространство и время. Вещный мир. Новосибирск, 1988. 225 с.
- Перевалова Е.В., Данилова Е.Н. Котел в культуре обских угров и самодийцев: археологический артефакт и «живая» традиция // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2019. № 4 (47). С. 152–164. https://doi.org/10.20874/2071-0437-2019-47-4-12
- Перевалова Е.В., Данилова Е.Н. Котел в культуре обских угров и самодийцев: сакральный аспект // Вестник архео-логии, антропологии и этнографии. 2020. № 1 (48). С. 116–126. https://doi.org/10.20874/2071-0437-2020-48-1-10
- Ранк О. Миф о рождении героя. М. ; Киев, 1997. 249 с.
- Федоров С.Е. Семантика инсталляционных инсигний // Труды исторического факультета Санкт-Петербургского уни-верситета. 2011. № 7. С. 277–294.
- Hardyment Ch. Malory: The Knight Who Became King Arthur's Chronicler. N. Y., 2006. 688 p.