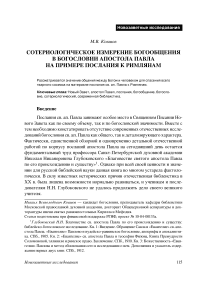Сотериологическое измерение богообщения в богословии апостола Павла на примере послания к римлянам
Автор: Ковшов Михаил Всеволодович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Новозаветные исследования
Статья в выпуске: 1 (36), 2011 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается значение общения между Богом и человеком для спасения всего тварного космоса на материале послания св. ап. Павла к Римлянам.
Новый завет, апостол павел, послания, богообщение, богословие, сотериологический, современная библеистика
Короткий адрес: https://sciup.org/140189905
IDR: 140189905
Текст научной статьи Сотериологическое измерение богообщения в богословии апостола Павла на примере послания к римлянам
Послания св. ап. Павла занимают особое место в Священном Писании Нового Завета как по своему объему, так и по богословской значимости. Вместе с тем необходимо констатировать отсутствие современных отечественных исследований богословия св. ап. Павла как общего, так и детализирующего характера. Фактически, единственной обзорной и одновременно детальной отечественной работой по корпусу посланий апостола Павла на сегодняшний день остается фундаментальный труд профессора Санкт-Петербургской духовной академии Николая Никаноровича Глубоковского «Благовестие святого апостола Павла по его происхождению и существу» 1 . Однако при всей своей ценности и значении для русской библейской науки данная книга во многом устарела фактологически. В силу известных исторических причин отечественная библеистика в XX в. была лишена возможности нормально развиваться, и ученикам и последователям Н.Н. Глубоковского не удалось продолжить дело своего великого учителя.
Михаил Всеволодович Ковшов — кандидат богословия, преподаватель кафедры библеистики Московской православной духовной академии, докторант Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 10-04-00133а.
В то же время на Западе в течение XX в. было написано огромное количество исследований, посвященных посланиям св. ап. Павла, его жизни и богословию. В качестве яркого примера можно привести работу британского ученого Джеймса Данна «Богословие апостола Павла», в которой он дает обзор мысли этого новозаветного автора и вместе с тем подробно рассматривает систему его богословия 2 . Исагогическим введением к этому основательному труду может служить вышедший под редакцией того же исследователя сборник статей «Кембриджский путеводитель по апостолу Павлу», авторы которого подробно рассматривают вопросы жизни св. ап. Павла, исторического контекста, в котором были написаны послания, разбирают проблемы их авторства, подлинности, значения для современности и т.д. 3
К сожалению, отечественных аналогов подобного рода работ на сегодняшний день не существует. Однако появление аналогичных исследований само по себе не решит проблему слабой изученности наследия св. ап. Павла. В течение десятилетий отечественная богословская наука находилась в искусственно созданном гетто и была озабочена «самыми элементарными вопросами простого существования» 4 . По этой причине на сегодняшний день недостаточно говорить о русской библеистике как о самостоятельной научной школе с собственной концептуальной научной парадигмой (что можно было сказать о дореволюционной российской библейской школе). Нынешние отечественные библеисты чаще всего находятся между Сциллой слепого подражания современным западным авторам и Харибдой механического репродуцирования достижений русских дореволюционных библеистов без учета данных современной библейской науки.
Преодоление этой ненормальной ситуации возможно только на пути гармоничного сочетания общего подхода к изучению Священного Писания, сложившегося в русской дореволюционной библеистике, с огромной базой фактологических наработок, накопленных библеистикой западной. Основными критериями отношения к Священному Писанию для русских библеистов XIX в. было, с одной стороны, признание его богодухновенности, а с другой, требование не исключать использование святоотеческой экзегетики для уяснения смысла библейского текста. Необходимость использования основополагающих достижений западных библеистов XX столетия, а также современных методов и под- ходов к толкованию Священного Писания, обусловлена объективным отставанием российской библейской науки от западной. Однако такое использование не должно переходить в слепое механическое заимствование и копирование; напротив, в ряде случаев весьма полезным является критично-полемичное отношение к иностранным источникам. Хорошим примером такого отношения является уже упоминавшийся труд проф. Н.Н. Глубоковского. В нем он демонстрирует свою широчайшую эрудицию, рассматривая все известные в его время подходы к посланиям св. ап. Павла и его богословию, и в то же время показывает здравое отношение к ним, не собираясь во всем соглашаться с доводами западной библейской науки. Лишь при таком подходе представляется возможным дать объективную картину изучения посланий св. ап. Павла в современной библеистике, сохраняя вместе с тем преемство с уже имеющейся традицией биб-леистики отечественной и тем самым способствуя возрождению последней. Методологическому примеру Н.Н. Глубоковского следовал и автор данной статьи при ее написании.
Идея богообщения в посланиях святого апостола Павла
Одна из важных проблем, связанных с изучением посланий св. ап. Павла, может быть сформулирована следующим образом: действительно ли в посланиях святого апостола присутствует идея богообщения?
В данной проблеме можно выделить несколько более частных вопросов. Во-первых, есть ли у нас достаточные основания говорить о том, что в посланиях апостола Павла наличествует идея именно об общении человека с Богом? Как ни странно, сомнения в этом можно встретить в православной среде. В православии принято говорить скорее о богопознании , нежели о богообщении . Вместе с тем категория общения занимает центральное место в таком философском направлении, как персонализм (и православный в том числе). Поэтому для некоторых православных богословов указанная тема ассоциируется с навязыванием апостолу Павлу чуждых ему философских представлений.
Второй вопрос связан с тем содержанием, которое вкладывается в понятие «богообщение». Почти сто лет назад Альберт Швейцер заявил, что «у Павла нет мистики единения с Богом — только мистика единения со Христом, посредством которого человек становится в определенное отношение к Богу. ‹…› Павел — единственный из христианских мыслителей, у кого есть только мисти- ка единения с Христом и нет мистики единения с Богом»5. Для того, кто воспринимает Господа Иисуса Христа всего лишь как «Иисуса из Назарета», это утверждение будет означать, что у апостола Павла вообще отсутствует представление о непосредственном личном общении между человеком и Богом. Для православного человека полнота богообщения подразумевает личные взаимоотношения с каждой из Ипостасей Пресвятой Троицы, поэтому принятие им данной точки зрения неизбежно приведет к редукции апостольской идеи о бо-гообщении до швейцеровской мистики соединения со Христом.
По мнению автора, есть все основания утверждать, что в посланиях апостола Павла присутствует идея об общении человека с Богом. Богообщение для апостола подразумевает глубокие межличностные взаимоотношения человека с Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым, и имеет определяющее значение для спасения как человека, так и всего тварного космоса.
Для ответа на первый из поставленных выше вопросов достаточно проанализировать те категории, которые апостол Павел употребляет для обозначения общения человека с Богом. Самая главная из них — koinwni,a. Русский перевод слова koinwni,a как «общение» не совсем адекватно передает значение греческого термина, поскольку, как отмечает Дж. Кэмпбелл (J. Campbell), «главной идеей, выражаемой термином koinwno,j и родственными ему словами, является не общность с другой личностью или личностями, но соучастие в чем-то, в чем принимают участие также и другие» 6 . Можно было бы перевести это слово как «соучастие, cоработничество, сотрудничество» (cр. греч. sunergi,a — «сора-ботничество, сотрудничество» 7 ). Koinwni,a, таким образом, указывает на тесную связь, близость, дружеские взаимоотношения. Классические греческие авторы
(например, Эврипид) называют этим словом брак 8 . Характерно, что антонимом koinwni,a служит слово kaki,a — «зло, испорченность, негодность» 9 .
В Священном Писании Нового Завета термин koinwni,a используется как для описания взаимоотношений между Богом и человеком, так и людей между собой. Макс Тернер (Max Turner) справедливо замечает, что понятие koinwni,a в Новом Завете имеет два измерения: вертикальное и горизонтальное 10 . К первому относится общение человеческих личностей с Пресвятой Троицей, а ко второму — друг с другом в единстве Церкви. Оба вида общения нераздельны и взаимосвязаны. Например, апостол Иоанн Богослов, который определяет цель своего послания как «чтобы и вы имели общение (koinwni,an e;chte) с нами», главной причиной для этого общения называет то, что « наше общение (h` koinwni,a de. h` h`mete,ra) — с Отцем и Сыном Его, Иисусом Христом» (1 Ин 1:3). Здесь koinwni,a, по мнению Макса Тернера, означает не просто совместное участие верующих в благах, которые подаются от Отца и Сына. Это означает, что верующие в некотором смысле участвуют с Отцом и Сыном в правде, любви, свете и жизни, поскольку Они и есть правда, любовь, свет и жизнь 11 .
Именно святой апостол Павел больше всех других новозаветных авторов употребляет термин koinwni,a (13 из 19 раз). К первому измерению понятия koinwni,a в посланиях апостола Павла можно отнести следующие места: 1 Кор 1:9; 1 Кор 10:16; 2 Кор 13:13; Флп 2:1; Флп 3:10. В Первом послании к Коринфянам апостол Павел говорит: «Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его (eivj koinwni,an tou/ ui`ou/ auvtou/) Иисуса Христа, Господа нашего» (1 Кор 1:9). Во всей своей полноте это теснейшее взаимоотношение реализуется в пространстве Таинства Евхаристии, которую святой Апостол Павел также называет общением:12 «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой (koinwni,a tou/ ai[matoj tou/ cristou)? Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела Христова (koinwni,a tou/ sw,matoj tou/ cristou/)» (1 Кор 10:16)?13 В третьей главе послания к Филиппийцам апостол Павел говорит уже о приобщении страданиям Господа Иисуса Христа: «чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его (th.n koinwni,an tw/n paqhma,twn auvtou/), сообразуясь смерти Его...» (Флп 3:10). Однако «вертикальное» измерение понятия koinwni,a у апостола Павла не ограничивается его применением только для описания взаимоотношений верующих с Господом Иисусом Христом. Так, в заключительном благословении из Второго послания к Коринфянам, которое навсегда вошло в Евхаристический канон православной Литургии, апостол Павел говорит: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение (h` koinwni,a) Святаго Духа со всеми вами. Аминь» (2 Кор 13:13). В греческом тексте второй главы послания к Филиппийцам речь, очевидно, также идет об общении христиан со Святым Духом или же общении друг с другом во Святом Духе14: «Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа (koinwni,a pneu,matoj)... (Флп 2:1). Даже по этим пяти стихам можно сделать однозначный вывод о том, что у апостола Павла присутствует идея о богооб-щении как самом тесном взаимоотношении человека с Богом, и это общение не ограничивается швейцеровской мистикой соединения со Христом.
Для ответа на второй вопрос и подтверждения заявленных выше тезисов будет использован метод, который применил для изложения богословия апостола Павла Джеймс Данн в упомянутой выше книге «Богословие ап. Павла». В этом обстоятельном труде Данн использует послание к Римлянам в качестве основы для реконструкции целостной картины богословия апостола Павла. В данном случае в качестве смыслового «костяка» для дальнейших рассуждений будут использованы богословские идеи из 5–8 глав послания к Римлянам. Отталкиваясь от этих концептов, мы постараемся показать, что понятие богообще-ния обозначает для апостола Павла глубокие межличностные взаимоотношения человека с Богом Отцом, Богом Сыном и Богом Духом Святым, и имеет определяющее значение для спасения как человека, так и всего тварного космоса.
Первое место, на которое хотелось бы обратить внимание в данном отрывке — известный 12-й стих из 5-й главы: «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим.5:12). Сейчас мы не станем останавливаться на смысле выражения evfV w-|, которое является самым проблемным в данном стихе, а обратим внимание на понятие «грех» (a`marti,a).
Слово a`marti,a — «промах, ошибка; вина, грех» 15 — использовалось в греческом для обозначения природы действия, выражаемого глаголом a`marta,nw. Значение последнего — «не попасть, промахнуться». В LXX a`marta,nw и его дериваты наиболее часто используется для перевода слов, производных от корня ajx, который имеет аналогичное значение — «недостаток, грех, совершать грех», а в породе Hiphil в том числе и «бить мимо цели» 16 . Как видно из приведенных значений, для уяснения сущности греха недостаточно одного филологического анализа, поскольку «эти наименования ‹…› не указывают той нормы — того масштаба, коим бы определялось это отклонение вообще и в частности степень этого отклонения» 17 . Романо Пенна (Romano Penna) определяет сущность греха в его библейском понимании как «отчуждение от Бога» 18 . Такое представление о грехе, по мнению Пенна, обусловлено прежде всего тем, что человек в Библии «всегда находится в отношении, в особенности в отношении к Богу» 19 . Исходя из общебиблейского контекста, определение Пенна вполне можно применить к пониманию греха апостолом Павлом, однако при этом необходимо сделать одну существенную оговорку: грех есть не только отчуждение, но и вполне реальное искажение и разлад .
Последствия греха не ограничиваются разрывом отношений между Богом и человеком. Распад продолжается внутри самого человека, приводя к тому, что человек перестает владеть самим собой. Эту ситуацию весьма точно описывает апостол Павел в седьмой главе послания к Римлянам: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю (ouv ga.r o] qe,lw tou/to pra,ssw( avllV o] misw/ tou/to poiw/) ‹…› а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех (ouvke,ti evgw. katerga,zomai auvto. avlla. h` oivkou/sa evn evmoi. a`marti,a). Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей (evn th/| sarki, mou), доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу... Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон (e[teron no,mon), противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного (tw/| no,mw| th/j a`marti,aj), находящегося в членах моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти (tou/ sw,matoj tou/ qana,tou)?» (Рим 7:15, 17–18, 22–24). Здесь мы сталкиваемся с двумя негативными антропологическими понятиями: «тело смерти» (to. sw/ma tou/ qana,tou) и «плоть греха» (sa,rx a`marti,aj) (Рим 8:3). В терминологии апостола Павла, как отмечает Джон Робинсон (John A.T. Robinson), оба термина (sa,rx и sw/ma) восходят к одному еврейскому оригиналу — гиз («плоть»)20. Именно поэтому в LXX swma часто (21 раз)21 используется для перевода еврейского зоз22. Роберт Джуэтт (Robert Jewett) считает, что «Павел не только ставит слово «тело» вместо «плоти» в пассажах, подобных Рим 7:24–25 и 8:9–13, но и вводит новые выражения, такие как «тело греха», «мертвое тело», «смертное тело» и «тело смерти», чтобы сделать sw/ma коррелятом sa,rx в изображении жизни в ветхом эоне»23. Однако жизнь «в ветхом эоне» в терминологии апостола Павла обозначает скорее выражение «kata. sa,rka»: «жить по плоти», «поступать по плоти», «хвалиться по плоти» и т.д. (см. Рим 8:1, 4–5, 8–9, 12–13; 1 Кор 1:26; 2 Кор 1:17, 10:2, 11:18 и т.д.). В данном же случае оба термина обозначают скорее пораженную грехом человеческую природу, которая детерминирует человеческое бытие. Причем акцент должен быть сделан не на терминах «плоть» и «тело», которые у апостола Павла могут иметь нейтральное и даже положительное значение (см. Рим 1:3, 3:20, 8:23, 9:3,5, 12:5; 1 Кор 1:29, 12:27; Еф.2:15, 5:29–31; Кол 1:22,24, 2:17; 1 Фесс 5:23 и т.д.), а на словах «грех» и «смерть». Пораженная человеческая природа становится детерминирующим принципом для его бытия, который св. ап. Павел определяет словосочетанием «закон греха» (o` no,moj th/j a`marti,aj). Об этом состоянии можно сказать, что человек детерминирован, ограничен самим собой, своими греховными желаниями и наклонностями.
Однако распад не ограничивается одним лишь человеком. Грех Адама поверг весь мир в состояние порчи и разложения: «потому что тварь покорилась суете (mataio,thj) не добровольно, но по воле покорившего ее...» (Рим 8:20). Таким образом, космос лишился славы Божией вслед за человеком: «Первозданный рай исчез, и мир обречен на гибель и разложение»24. Здесь стоит напомнить о том, что термин mataio,thj (греч. «суета, тщета, бесцельность»)25 является антонимом слова te,loj (греч. «исполнение, завершение, выполнение»)26 и обозначает, в данном случае, неудачу поставленной перед творением цели27. О том, какова эта цель, апостол Павел прямо не говорит, хотя его рассуждения в 19–22 стихах 8-й главы и подводят к этой мысли. Ответ на этот вопрос мы находим в Первом послании к Коринфянам, где говорится, что в эсхатологическом свершении «будет Бог все во всем (h=| o` qeo.j Îta.Ð pa,nta evn pa/sin)» (1 Кор 15:28).
«Христология Адама»
Что обозначает это присутствие Божие во всем творении? Для ответа на этот вопрос я хотел бы обратиться к богословскому наследию преподобного Максима Исповедника, который делал особый акцент на обожении всего творения во главе с человеком. Человек в представлении прп. Максима является микрокосмом, объединяющим в себе жизнь чувственную и жизнь умопостигаемую. Однако человек как микрокосмос является не просто зеркалом, отображающим в себе весь тварный мир, но он призван к реализации Божественного задания, он должен действовать как микрокосм, объединяя в себе противоположности мира 28 . Человек, по мысли прп. Максима Исповедника, должен был преодолеть разделения первых дней творения путем последовательных соединений различных уровней бытия мира, возводя таким образом мир в то состояние, когда «будет Бог все во всем» (1 Кор 15:28) 29 .
Однако человек пал и утратил свое посредническое положение, всецело подчинившись «стихиям мира сего» (Кол 2:8; Гал 4:3,9). Положение, в котором он оказался, отделило его от умопостигаемых тварей и поставило на одну степень с чувственными, и он оказался неспособным выполнить возложенную на него Богом задачу. Реализацию объединения тварного мира после грехопадения исполняет Господь Иисус Христос, а человек теперь должен «жить в соответствии с этим исполнением и активно в нем участвовать»30. Апостол Павел говорит об этом в 14-м стихе 5-й главы, противопоставляя два человеческих семейства — потомков падшего Адама и новое человечество, возрожденное в Господе нашем Иисусе Христе31. В данном случае апостол Павел использует метод типологической экзегезы Ветхого Завета, называя Адама прообразом Иисуса Христа: Адам есть «образ будущего (греч. tu,poj tou/ me,llontoj)» Адама, то есть Иисуса Христа. Через преступление первого Адама грех и смерть перешли во всех его потомков (Рим 5:12), а благодаря послушанию Нового Адама все люди получают оправдание и жизнь (Рим 5:18–19). Христос, таким образом, становится родоначальником нового, возрожденного человечества, освобожденного от греха и смерти. В послании к Коринфянам св. ап. Павел также касается этой темы: «Так и написано: первый человек Адам стал душею живущею (yuch.n zw/san); а последний Адам есть дух животворящий (pneu/ma zw|opoiou/n). Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек — из земли, перстный; второй человек — Господь с неба» (1 Кор 15:45–47). Эта же тема появляется в христологическом гимне из послания апостола Павла к Филиппийцам. Христос, «будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил (evke,nwsen) Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп 2:6–8). В Новом Завете, как отмечает Киттель (Gerhard Kittel), «оригинал всегда присутствует в образе»32. Поэтому когда апостол Павел в данном случае называет Иисуса Христа «образом Бога», он настаивает как раз на равенстве Образа со Своим Первообразом33. В отношении к Господу Иисусу Христу термин «образ Божий» (греч. eivkw.n tou/ qeou/) обозначает Его равенство с Богом Отцом. Господь Иисус Христос, будучи образом Божиим, двояко уничижает Себя: как Бог, Он смиряет Себя, становясь человеком; и как человек, он уничижает Себя, став послушным «даже до смерти» на кресте34. C другой стороны, крайнее унижение становится путем к величай- шему прославлению: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп 2:9–11).
По мнению Джеймса Данна, в данном случае мы имеем дело с так называемой «христологией Адама»: апостол Павел представляет Господа Иисуса Христа как «второго Адама», Который исправляет ошибки первого. Данн проводит следующие соответствия между Христом и Адамом. Это понятие образа Божия (Флп 2:6–7); равенство Богу (Флп 2:6); принятие образа раба (2:7); послушание до смерти (2:8); возвышение и прославление (2:9–11). Каждая из этих характеристик соотносится с действиями прародителей: образ Божий — с сотворением человека по образу Божию; равенство Сына Отцу — с желанием первых людей быть равными Богу и т.д. Человек Иисус Христос, будучи образом Божиим, «не последовал примеру Адама и не попытался обрести равенство с Богом, но предпочел положение раба и смерть — и был позже вознесен и возвеличен Богом» 35 . Таким образом, Господь Иисус Христос вновь проживает в Самом Себе жизнь Адама, однако не останавливается на этом, а исполняет в себе ту цель, которую Бог поставил перед первым человеком — его превознесение и прославление, то, что в терминологии святых отцов получило наименование «обожение». Но может ли человек стать причастным к этому прославлению и что он должен сделать для осуществления этой причастности? — вот самый главный вопрос.
Усыновление Богу через Христа
Ответ на этот вопрос мы находим ответ в восьмой главе послания к Римлянам. Здесь говорится о том, что Бог Отец предопределил предузнанных Им верующих быть подобными образу Своего Сына (см. Рим 8:29; ср. также 1 Кор 15:49; Кол 3:10). По словам Чарльза Барретта (C.K. Barrett), Христос есть образ Божий, и человек также носит Его образ; это означает, что человек не остается в одиночестве, но является членом одной большой семьи, Глава которой — Сам Иисус Христос 36 . Во Христе «божественный образ был вос-создан на земле. Воплощение, слова и действия Иисуса, Его смерть на кресте, — все это суть необходимые части этого образа» 37 . Но самое главное, что подразумевает воссоздание образа — это новое творение человека по образу Господа Иисуса
Христа. Восстановление Господом подлинного человеческого бытия мыслится апостолом Павлом как воссоздание образа, его новое творение 38 .
Робин Скроггс (Robin Scroggs) отмечает, что базовой идеей для благовестия апостола Павла было утверждение о том, что Христос принес человеку, а следовательно, и всему миру, обновленное бытие, поскольку человек во Христе становится новым творением 39 . И хотя сам термин «новое творение» (греч. kainh. kti,sij) встречается в посланиях апостола Павла всего два раза (2 Кор 5:17; Гал 6:15), тем не менее, именно это понятие является тем базисом, на котором апостол Павел выстраивает свою антропологию, считает Скроггс 40 . «Итак, кто во Христе, тот новая тварь (kainh. kti,sij); древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор 5:17), — говорит апостол. Понятие «новый человек» (греч. kaino.j a;nqrwpoj)» апостол Павел употребляет чаще. Во второй главе послания к Ефесянам данный термин употребляется применительно к Господу Иисусу Христу, а в четвертой главе этого же послания и третьей главе послания к Колоссянам это понятие применяется уже к человеку (см. Еф 2:15, 4:24; Кол 3:10).
Для того чтобы объяснить, в чем состоит смысл этой идеи, обратим внимание на результат, к которому привело ее развитие в святоотеческом богословии. Отталкиваясь от представления апостола Павла о творении нового человека в Господе Иисусе Христе, уже первые христианские богословы начали понимать иконичность человека как его сотворенность по образу Христа, в результате чего человек становится «образом Образа». Эта идея встречается уже у ранних отцов, например у Климента Александрийского41, свт. Иринея Лион-ского42, но свое богословское завершение она находит в трудах прп. Анастасия Синаита: «Когда Бог творил незримого Ангела, Он не говорил: «Сотворю Ангела по образу и по подобию Своему». А творя двойственного человека, который является зримым и незримым, (Бог) назвал его Твоим образом и подобием, ибо человек — смертен и бессмертен, отпечатлевая мыслящей и бессмертной душой Твое, Христе, Божество, а в страстном теле (своем) истинный образ Твоего Человечества, единосущного ему»43. Вполне вероятно, что апостол Павел, говоря о восстановлении человека и его новом творении по образу Сына Божия, имел в виду то же самое. Будучи тем прототипом, по которому был создан первый человек, Господь Иисус Христос становится и тем образом, по которому творится человек новый. Каждый человек теперь может стать «подобным образу Сына» (Рим 8:29), вступив в общение с Ним: «И как мы носили образ перстного (th.n eivko,na tou/ coi?kou/), будем носить и образ небесного (th.n eivko,na tou/ evpourani,ou)» (1 Кор 15:49).
Непосредственным результатом общения верных с Иисусом Христом является их усыновление (ui`oqesi,a) Богу через Иисуса Христа (Еф 1:5). Слово ui`oqesi,a было техническим термином для обозначения усыновления в грекоримском мире. Тем не менее в греческих источниках оно не употребляется в метафорическом смысле и отдельно от акта усыновления, как статус в отличие от процесса, с чем мы встречаемся у апостола Павла 44 . В Новом Завете термин встречается пять раз исключительно в посланиях апостола Павла (Рим 8:5,23; 9:4; Гал 4:5; Еф 1:5).
Апостол Павел в данном случае развивает ветхозаветную идею богосы-новства. Практика усыновления была широко распространена на древнем Ближнем Востоке 45 . При этом наиболее общим типом усыновления был тот, при котором человек усыновлял одного или более сыновей. В обмен на получение доли в имуществе на усыновленного возлагались определенные обязанности, описывавшиеся в специальном контракте. Чаще всего это обозначало заботу о пропитании новых родителей 46 . Именно широким распространением практики усыновления в Древнем Израиле, по мнению Дэниэла Блока (Daniel I. Block), объясняется тот факт, что отношения Яхве с Его народом часто обозначаются в Ветхом Завете как отношения Отца и cына 47 . Безусловно, широкое распространение практики усыновления в древнем мире и, в частности, в древнем Израиле, оказало влияние на применение данного образа для описания взаимоотношений
Бога с избранным Им народом. Однако это — далеко не единственная причина, по которой этот образ употребляется в данном контексте. Невозможно представить себе более близкие человеческие отношения, чем узы родства внутри семьи. Даже сегодня, когда люди разобщены и действуют скорее как индивиды, чем как части единого целого, мы вряд ли сможем найти более близкий тип человеческих отношений, чем муж-жена, отец-сын. Для древнего же человека, мыслившего себя в значительной мере как часть семьи или клана, семейные отношения и были той средой, где он обретал свою идентичность 48 . Поэтому когда Яхве говорит, что Он является Отцом для всего Израиля («И скажи фараону: так говорит Господь: Израиль [есть] сын Мой, первенец Мой»; Исх 4:22), Он показывает, что первичным для израильтян является не социальное отношение и не родство по плоти, но непосредственная связь и ответственность общества израильского перед Богом 49 .
Отсюда категория завета осмысливается уже не как отношения сюзерена-вассала, но как отношения внутри семьи: для любящего сына очевидно, что он должен любить и уважать своего Отца; в противном же случае, согласно законам древнего мира, за неуважение к Родителю его ждет наказание вплоть до смерти. При этом обращает на себя внимание то несоответствие, которое наблюдается между обещаниями Яхве и Его требованиями к людям, с которыми Он заключает Завет. В противоположность своим ближневосточным аналогам, библейские заветы всегда сфокусированы на обещаниях Бога, а не на человеческих обязанностях; последние всегда немногочисленны и сконцентрированы преимущественно на отношении человека к Богу 50 . Яхве, таким образом, приспосабливается к немощи человеческого восприятия: поскольку древние израильтяне в большинстве своем не могли подняться над границами своих социокультурных стереотипов, Он обращается к ним на понятном для них языке; с другой стороны, называя Себя Отцом, Он показывает, что Его взаимоотношения с Израилем не просто носят уникальный характер, но являются настолько близкими, насколько человек только может себе представить.
В Новом Завете апостол Павел дает богосыновству еще более уникальное определение. Практика усыновления, которая так или иначе осмысливалась в древнем мире (и в Израиле в том числе) в категориях завета-договора, переносится им в еще более глубокий план общения человека с Богом. И богосынов-ство, и Завет, и обретение человеком своего богоподобия становятся следствием его непосредственного соединения со Христом и через Него — со всей Пресвятой Троицей. Нося образ небесного Адама, христиане становится возлюбленными чадами Божиими (Рим 8:16). Как дети Божии, верные получают право наследства вместе со Христом: «А если дети, то и наследники (klhrono,moi), наследники Божии, сонаследники (sugklhrono,moi) же Христу» (Рим 8:17). Вводятся же верные в это наследство неизреченной силой Святого Духа: «Духом Святым — восстановление наше в рай, вступление в Небесное Царство, возвращение в сыноположение, дерзновение именовать Отцем своим Бога, соделываться общниками благодати Христовой, именоваться чадами света, приобщиться вечной славы, одним словом, приобрести всю полноту благословения и в сем, и в будущем веке, когда в себе, как в зеркале, отражаем благодать тех благ, какие предназначены нам по oбетoвaниям, и которыми чрез веру наслаждаемся, как уже настоящими»51.
Апостол называет Духа Божия «Духом усыновления (pneu/ma ui`oqesi,aj)» (Рим 8:15, 23) и «залогом нашего наследия (avrrabw.n th/j klhronomi,aj h`mwn)» (Еф 1:14). Только через Его посредство мы можем взывать «VAbba( o` path,r»! (Рим 8:15; Гал 4:6). Дух Святой соделывает верующих сынами Всевышнего и таким образом завершает в них спасительное дело Христово: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться» (Рим 8:14–17; см. также Гал 4:6). Именно Дух Святый обновляет нас из ветхого человека в нового, поскольку наши тела становятся храмами Духа Святого (1 Кор 3:16; 6:19). Живое и деятельное присутствие Господне в Ветхозаветном Храме, где Он «многократно и многообразно» открывал Себя людям (ср. Евр 1:1), сравнивается апостолом с Его присутствием в человеке52. Живо и действенно присутствуя в человеке, Дух Святый соединяет верных со Христом, как Дух Христов, и с Богом Отцом, как Дух Божий, и таким образом приводит чело- века в общение со Всей Пресвятой Троицей. Усыновление человека Богу Отцу происходит поэтому во Христе посредством Святого Духа, Который действует среди верных как в едином Теле.
Участие многих в одном даре Духа
Усыновление Отцу через Сына в Духе Святом, или, иными словами, восстановление подлинного богообщения, есть процесс не только динамический, но и соборный. Общение Духа есть «совместное участие многих в одном даре Духа, как и koinwni,a с Сыном (1 Кор 1:9) есть участие многих в одной мессианской жизни, смерти и воскресении Сына» 53 . Воссоздание подлинного человеческого образа, творение «нового человека (греч. kaino.j a;nqrwpoj)», которого создает в Себе Господь Иисус Христос (Еф 2:15), становится объективной реальностью для конкретного человека не в его замкнутом индивидуализме, но в его открытости к любви и самопожертвованию в Церкви.
Церковь Христова представляет собой совершенно новый образец общества людей, который был неизвестен античному миру. В классическом античном понимании было два типа сообщества, в которых могли принимать участие люди греко-римского мира. Во-первых, это politei,a (греч. «положение и права гражданина, гражданство»)54, под которой подразумевалась общественная жизнь города или национального государства, к которому человек принадлежал; и во-вторых, oivkonomi,a (греч. «управление домом, семьей, экономия, бережли-вость»)55, домашний быт и порядок, в котором он был рожден или к которому он присоединился56. Хотя могли существовать и другие типы сообщества (например, объединения юношей (oi` ne,oi, new,teroi, neani,skoi), чаще всего носившие характер спортивных клубов)57, большинству законных граждан было вполне достаточно двух указанных типов общения. Так, житель греческих Афин V в. до Р.Х. имел право голоса в своем родном полисе, а также играл главную роль в управлении своим домом — семейным единством, главой которого он являлся. Однако эти два вида сообщества были также доступны далеко не всем, а именно – были недоступны рабам, иждивенцам, неженатым совершеннолетним и изгоям общества58. К первому веку нашей эры эта модель построения общества канула в лету. По всему Средиземноморью реальная власть в пределах Римской империи была сосредоточена в руках немногочисленных аристократических групп, большая же часть граждан не имела никаких властных полномочий. Лишившись возможности участия в politei,a, люди пытались восполнить недостаток общения в oivkonomi,a — жизни своего дома и семьи59. Люди же мыслящие или более религиозные члены общества мечтали о новой форме универсального содружества. Было ли это «содружество стоиков, где царствовал разум, или интернациональная теократия, управляемая Мессией из Иерусалима, эта идея владела умами многих греков, иудеев и римлян», — считает Роберт Бэнкс Robert Banks)60.
Однако сами по себе многочисленные религиозные братства и философские школы, профессиональные и коммерческие союзы, политические, военные или спортивные объединения не могли утолить духовную жажду человека. В еврейских религиозных обществах, подобных фарисеям, участие в братстве было сконцентрировано вокруг закона, воплощенного в Торе, а центром эллинистических религиозных обществ был культ с драматической мистикой ритуалов и процессий 61 . Рассуждения о людской общности среди философских школ носили абстрактно-отвлеченный характер. Например, философия стоиков, элементы которой столь часто находят в богословии св. ап. Павла, по своей сути является асоциальной: «Хотя стоики полагали, что все пронизаны одним и тем же Логосом, общепризнанным базисом общения, тем не менее в фокусе было прежде всего индивидуальное, внутреннее состояние добродетели и спокойствия, стремление каждого жить в соответствии с природой» 62 . Во всех перечисленных пониманиях общения отсутствует момент персонального взаимоотношения, личной связи людей друг с другом. Христианство же предложило людям греко-римского мира вступить в совершенно новый, доступный каждому человеку тип сообщества — koinwni,a. Центром сообщества этого типа является не мораль, закон или культ, а любовь как личное взаимоотношение каждого его члена с Богом и затем людей друг с другом.
Здесь стоит вспомнить о горизонтальном измерении понятия koinwni,a. Когда речь идет о межличностных взаимоотношениях между людьми, слово koinwni,a указывает на самые близкие и дружественные взаимоотношения между ними. Пребывая в «благотворении и общительности» (греч. euvpoii По глубоко верному определению Джорджа Паникулэма (George Paniku-lam), употребление термина koinwni,a в богословии св. ап. Павла, с одной стороны, всегда христоцентрично, а с другой, никогда не указывает на индивидуальное участие кого-то во Христе63. Эти два важнейших аспекта новозаветной концепции общения ярко проявляются в употреблении апостолом Павлом другого термина — sw/ma. Термин sw/ma может обозначать «тело Христовой плоти, человеческое, материальное тело, испытавшее смерть на кресте, или любое другое человеческое тело»64. Однако в Рим 12 и 1 Кор 12 образ тела становится базой для метафоры, обозначающей Церковь как единый организм, состоящий из многих взаимосвязанных между собой членов. Теснейшее единство верных со Христом апостол Павел изображает здесь с помощью образа тела и его главы. Метафора тела, как отмечает Барретт (C.K. Barrett), стоит в тесной связи с формулой «во Христе» (греч. evn Cristw/|): те, кто находятся во Христе, уже не являются индивидами, но единым телом65. Одним из самых главных средств для созидания этого единства является Евхаристия. Среди прочих мнений о происхождении метафоры тела у апостола Павла заслуживает внимания точка зрения Роулинсона (Rawlinson), который полагал, что ее появление связано с использованием данной фразы в Евхаристии66. «Христиане вкушают хлеб, который есть Тело Христа, и таким образом сами становятся Телом Христовым: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение (koinwni,a) Крови Христовой? Хлеб, который преломля- ем, не есть ли приобщение (koinwni,a) Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор 10:16—17)»67. Таким образом, как отмечает Жан-Мари Тиллар (Jean-Marie-Roger-Tillard) , совместное участие (греч. mete,cein; см. 1 Кор 10:21) верных в таинстве Тела и крови Христовых делает их причастниками (греч. koinwnoi,; см. 1 Кор 10:18,20) их Господа, Который и созидает их единство68, единство одного цельного тела. Причем это не аморфное тело стоиков, в котором каждый его член играл определенную роль, как считал У. Нокс (W.L. Knox)69. Как справедливо заметил Эрнест Бест (Ernest Best), апостол Павел сравнивает Церковь не просто с телом, но с Телом Христовым (1 Кор 12:27). Поэтому «когда Церковь называется телом, или даже телом из христиан, внимание сфокусировано только на общине; но когда она называется Телом Христовым, в центре внимания становится Хри-стос»70. Еще один важнейший образ, который использует апостол Павел для описания церковной кинонии, — это образ семьи. Метафорическое использование семейных отношения для описания сущности Церкви имеет весьма большое значение для апостола Павла. Поэтому Роберт Бэнкс, например, даже считает, что «сравнение христианского сообщества с семьей должно быть расценено как наиболее значимая метафора из всех [прочих метафор])»71. Ап. Павел буквально называет верующих «домашними по вере (oivkei,ouj th/j pi,stewj)» (Гал 6:10), «домашними Богу (oivkei/oi tou/ qeou/)» (Еф 2:19). Греческое слово oivkei/oj буквально означает «принадлежащий или находящийся в отношении к семье»72, «связанный узами крови, кровным родством»73 . Таким образом, термин oivkei/oj указывает на самую тесную близость между верующими, и его новозаветное понимание «очевидно определяется идеей общности»74. Церковь есть «дом Божий (oi=koj qeou/)» (1 Тим 3:15), а апостолы являются его «экономами» (греч. oivkono,moj — «тот, кто управляет домашним хозяйством»75, cм. 1 Кор 4:1–2; 9:17; Кол 1:25; Еф 3:2). Самым любимым термином, используемым ап. Павлом для обозначения членов общин, к которым он писал, является термин avdelfo,j (греч. «брат, рожденный от того же самого родителя или родителей»)76, отмечает Роберт Бэнкс77. Причем для св. ап. Павла это не просто формальное обращение, а знак личного участия, заботы и ответственности. Например, в первом послании к Коринфянам св. ап. Павел, говоря о немощном брате, называет его не только братом, «за которого умер Христос (diV o]n Cristo.j avpe,qanen)» (1 Кор 8:11), но и вполне персонально как «моего брата (to.n avdelfo,n mou)» (1 Кор 8:13), за которого я несу непосредственную ответственность78. Однако семейные отношения внутри Церкви опять же не должны замыкаться в узком кругу избранных, но распространяться на всех людей: «Будем делать добро всем (pro.j pa,ntaj), а наипаче своим по вере» (Гал 6:10). Предлог pro,j с аккузативом указывает на движение, на динамику отношения. Добро не статично, оно имеет динамичный характер и всегда направлено на помощь конкретным людям. Именно это означает выражение св. ап. Павла «вера, действующая любовью (pi,stij diV avga,phj evnergoume,nh)» (Гал 5:6). Начиная осуществлять свое бытие как любовь и самоотдачу в отношениях со всеми окружающими, человек становится «новой тварью (kainh. kti,sij)» (2 Кор 5:17; Гал 6:15) и вместе со Спасителем исполняет и завершает назначение первого Адама — соединение всего творения в нераздельное единство и приведение его к единению с Богом. Космос, находящийся в состоянии тления, может освободиться от этого состояния только благодаря человеку: «...сама тварь освобождена будет от рабства тлению (греч. doulei,a th/j fqora/j) в свободу славы детей Божиих» (Рим 8:21). Освобождение от рабства тлению для твари возможно только через создание нового человека; формирование же нового человека, в свою очередь, является результатом его обновления во Христе79 . Человек должен «совлечься ветхого человека (o` palaio.j a;nqrwpoj) с делами его» (Кол 3:9), и воспринять образ «небесного человека» (o` evpoura,nioj a;nqrwpoj; 1 Кор 15:49), став «подобным образу Сына» Божия (Рим 8:29). Тогда вся тварь «освобождена будет от рабства тлению» (Рим 8:21), и «будет Бог все во всем (h=| o` qeo.j Îta.Ð pa,nta evn pa/sin)» (1 Кор 15:28). Принятые сокращения 1. ТСО — Творения Святых Отцов в русском переводе. 2. TDNT— The Theological Dictionary of the New Testament / Kittel G., Fridriech G., eds. [Electronic resource] Grand Rapids, 2000. CD ROM Edition. 3. Abbott-Smith. Lexicon — Abbott-Smith G. A manual Greek Lexicon of the New Testament. - Edinburgh: T&T Clark, 1999. 512 p. 4. BDB — Brown F., Driver S. R., Briggs C. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon: with an appendix containing the Biblical Aramaic. – Boston: Hendrickson Publishers, 2000. 1185 p. 5. Friberg. Analytical Lexicon — Friberg B., Friberg T., Miller N. F. Analytical Lexicon of the New Testament. Grand Rapids, 2000. // Bible Works Program. [Electronic resource]. – Electronic program. – Version 7.0.012.g. – 2006. 6. Grimm-Thayer —A Greek-English Lexicon of the New Testament, being Grimm’s Wilke’s Clavis Novi Testamenti, translated, revised and enlarged by Joseph Henry Thayer, D.D. 1889 // Bible Works Program. [Electronic resource]. – Electronic program. – Version 7.0.012.g. – 2006. 7. Lampe, Lexicon — A Patristic Greek Lexicon / Lampe G.W.H., ed. – Oxford: Clarendon Press, 1961. – 1568 p. 8. LSj — Liddell H.G., Scott R. A Greek-English Lexicon / Jones H.S., ed. – Oxford: Clarendon Press, 1996. – 320 p. 9. LXX — Septuaginta / Rahlfs A., ed. – Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979. 10. NIDOTTE – New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis / VanGemeren W., gen. ed. – Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1997. 11. NIV – The Holy Bible. New International Version. – London: Hodder & Stoughton, 1998. – 1251 p. 12. NJB – New Jerusalem Bible / Wansbrough H., ed. Copyright © 1985, by Darton, Longman & Todd Limited and Doubleday // Bible Works Program. [Electronic resource]. – Electronic program. – Version 7.0.012.g. – 2006. 13. TLG – Thesaurus Linguae Graecae: Canon of Greek Authors and Works. [Electronic resource]. TLG CD ROM Edition. Irvine, 1999.
Список литературы Сотериологическое измерение богообщения в богословии апостола Павла на примере послания к римлянам
- Анастасий Синаит, прп. Три слова об устроении человека по образу и по по-добию Божиему. Слово первое//Альфа и Омега. -М., 1998. -№ 4 (18). -С. 89-118.
- Василий Великий, свт. О Святом Духе к святому Амфилохию, епископу Ико-нийскому//ТСО. -М., 1846. -Т. 7. Творения святаго Василия Великаго. Кн. 2. -274 С. 3. Введенский Д. Учение Ветхого Завета о грехе. -Сергиев Посад, 1900. -222 c.
- Максим Исповедник, прп. О различных трудных местах (апориях). 103-я апория.
- «Природы обновляются и Бог становится человеком» (из Слова XXXIX святите-ля Григория Богослова на святые светы)/Фокин А., пер. с древнегреч., коммент.
- Богословский сборник ПСТБИ. -М., 2003. -С. 128-136.
- Николай Кавасила, cвт. Семь слов о жизни во Христе. Слово четвертое. О жизни во Христе. Какое содействие дарует ей священное приобщение//Христос, Цер-ковь, Богородица. Богословские труды свт. Николая Кавасилы. -М., 2002. -С. 51-72.
- Учение двенадцати Апостолов/Пер. с греч. прот. В. Асмуса//Писания мужей апостольских. Рига: Латвийское библейское общество, 1994. -С. 17-38.
- Швейцер А. Мистика апостола Павла//Христос или Закон? Апостол Павел гла-зами новозаветной науки/Чернявский А.Л., сост. -М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2006. -С. 7-370.
- Greek-English Lexicon of the New Testament, being Grimm’s Wilke’s Clavis Novi Testamenti, translated, revised and enlarged by Joseph Henry Thayer, D.D. 1889//Bible Works Program. [Electronic resource]. -Electronic program. -Version 7.0.012.g. -2006.
- A Patristic Greek Lexicon/Lampe G.W.H., ed. -Oxford: Clarendon Press, 1961. -1568 p.
- Abbott-Smith G. A Manual Greek Lexicon of the New Testament. -Edinburgh: T&T Clark, 1999. -512 p.
- Banks R. Paul’s Idea of Community: The Early House Churches in their Historical Setting. -Exeter: The Paternoster Press, 1980. -208 p.
- Barrett C.K. From First Adam to Last. A Study in Pauline Theology. -London: Adam & Charles Black, 1962. -124 p.
- Best E. One Body in Christ. A Study in the Relationship of the Church to Christ in the Epistles of the Apostle Paul. -London: SPCK, 1955. -250 p.
- Block D.I. Marriage and Family in Ancient Israel//Marriage and Family in the Biblical World/Campbel K.M., ed. -InterVarsity Press, 2003. -Р. 33-102.
- Bonhoeffer D. The Cost of Discipleship. -Canterbury: SCM-Canterbury Press Ltd., 2001. -252 p.
- Brown F., Driver S. R., Briggs C. The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon: with an appendix containing the Biblical Aramaic. -Boston: Hendrickson Publishers, 2000. -1185 p.
- Byrne B. ’Sons of God’ -’Seed of Abraham’: A Study of the Idea of the Sonship of God of All Christians in Paul against the Jewish Background. -Rome: Biblical Institute Press, 1979. -288 p.
- Dunn J. D. G. The Theology of Paul the Apostle. -Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing, 1998. -808 p.
- Fee G.D. The New Testament and Kenosis Christology//Exploring Kenotic Christology: The Self-emptying of God/Evans S., ed. -Oxford: Oxford University Press, 2006. -P. 23-44.
- Gundry R.H. Sōma in Biblical Theology with emphasis on Pauline Anthropology. -Cambridge: Cambridge University Press, 1976. -267 p.
- Jewett R. Paul’s Anthropological Terms. A study of their use in conflict settings. -Leiden: Brill, 1971. -499 p.
- Liddell H.G., Scott R. A Greek-English Lexicon/Jones H.S., ed. -Oxford: Clarendon Press, 1996. -320 p.
- Matthews V.H. Marriage and Family in the Ancient Near East//Marriage and Family in the Biblical World/Campbell K.M., ed. -InterVarsity Press, 2003. -P. 1-32.
- New International Dictionary of Old Testament Theology and Exegesis/Van Gemeren W., gen. ed. -Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1997.
- New Jerusalem Bible/Wansbrough H., ed. 1985//Bible Works Program. [Electronic resource]. -Electronic program. -Version 7.0.012.g. -2006.
- Panikulam G. Koinōnia in the New Testament: A Dynamic Expression of Christian Life. -Rome: Pontificium Institutum Biblicum, 1979. -161 p.
- Pascuzzi M. Ethics, ecclesiology and church discipline: a rhetorical analysis of 1 Corinthians 5. -Roma: Editrice Pontificia Università Gregoriana, 1997. -234 p.
- Penna R. Paul the Apostle: Wisdom and Folly of the Cross. -Collegeville: The Liturgical Press, 1996. -Vol. 2. -285 p.
- Pierce T.M., Clendenen E.R. Enthroned on Our Praise: An Old Testament Theology of Worship. -Nashville: B&H Publishing Group, 2008. -256 p 30. Reinhold M. The Generation Gap in Antiquity//The Conflict of Generations in Ancient Greece and Rome/Bertman S., ed. -Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 1976. -P. 15-54.
- Robinson J.A. The Body: A Study in Pauline theology. -London: SCM Press LTD, 1952. -95 p.
- Scroggs R. The Last Adam. A study in Pauline Anthropology. -Oxford: Basil Blackwell, 1966. -139 p.
- Septuaginta/Rahlfs A., ed. -Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979.
- The Holy Bible. New International Version. -London: Hodder & Stoughton, 1998. -1251 p.
- The Theological Dictionary of the New Testament/Kittel G., Fridriech G., eds. [Electronic resource] Grand Rapids, 2000. CD ROM Edition.
- Thesaurus Linguae Graecae: Canon of Greek Authors and Works. [Electronic resource]. TLG CD ROM Edition. Irvine, 1999.
- Thunberg L. Microcosm and Mediator: The Theological Anthropology of Maximus the Confessor. -Chicago: Open Court, 1996. -512 p.
- Tillard J.-M.-R. Communion//Encyclopedia of Christian Theology/Lacoste J.-Y., ed. -New York-London: CRC Press, 2005. -Vol.1. -P. 322-330.
- Turner M. The Churches of the Johannine Letters as Communities of «Trinitarian» Koinōnia//The Spirit and Spirituality. Essays in Honour of Russell P. Spittler/Menzies R., ed. London: T & T Clark, 2004. P. 41-61.
- Walton J.H., Matthews V.H., Chavalas M.W. The IVP Bible Background Commentary: Old Testament. Downers Grove: InterVarsity Press, 2000. 832 p.