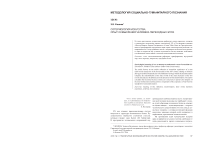Сотериология искусства: опыт осмысления человека переходных эпох
Автор: Фомина З.В.
Журнал: Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке @gisdv
Рубрика: Методология социально-гуманитарного познания
Статья в выпуске: 3 (37), 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена художественная рефлексия «опыта перехода» человека в социальных катаклизмах первых десятилетий XX в. На материале романов «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и «Семья Тибо» Роже дю Гара прослеживаются трансформации внутреннего мира героев, анализируются различия в ее направленности. Автор развивает мысль о сохранении целостности внутреннего мира и творчестве как условиях подлинности бытия, выявляет позитивные составляющие опыта войны с позиций экзистенциального анализа.
Смысложизненная рефлексия, трансформация, внутренний мир, опыт перехода, творчество, подлинное бытие
Короткий адрес: https://sciup.org/170175669
IDR: 170175669 | УДК: 82
Текст научной статьи Сотериология искусства: опыт осмысления человека переходных эпох
«Я не люблю правых, не падавших, не оступавшихся. Их добродетель мертва и малоценна. Красота жизни не открывалась им».
Б. Пастернак
XX век отмечен переосмыслением статуса искусства в структуре человеческого бытия. Художественное творчество становится голосом, которым говорит само Бытие (М. Хайдеггер). В пространстве человеческих вопрошаний ему принадлежит наиболее важное место: на протяжении всей истории культуры оно пребывает в поиске путей обретения подлинного бытия и отвечает на самые важные - экзистенциальные - вопросы человеческого существования. В этом смысле допустимо говорить о сотериологической функции искусства, значение которой особо возрастает в переломные, критические моменты жизни.
На протяжении всей человеческой истории вряд ли найдется хоть одно столетие, свободное от войн, революций и прочих социальных потрясе- ний. Тем не менее, отдельные периоды отличаются особым трагизмом - таковы первые десятилетия XX в., отмеченные первой в истории человечества мировой войной и революционными движениями, в России приведшими к социалистической революции - событиями катастрофического характера, кардинальным образом изменившими сами основания общественной жизни. Таковы и первые десятилетия XXI в.: сходство разделённых столетием исторических ситуаций трудно не заметить -то же острое ощущение надвигающейся мировой войны и социальные движения, потрясающие основы современной цивилизации. Такие периоды повышают экзистенциальное напряжение жизни, стимулируя интенсивную смысложизненную рефлексию, процессы самопознания и личностного самоопределения. С этой точки зрения поистине бесценен тот опыт осмысления драматических перипетий жизненного мира личности, который дают искусство и литература.
Среди произведений, раскрывающих феноменологию внутреннего опыта человека эпохи исторических катастроф, особенно выделяются два романа - «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и «Семья Тибо» Роже дю Гара, события в которых разворачиваются на фоне важнейших социальных потрясений первой четверти XX в. - Первой мировой войны и революционного движения в России и Европе. Предметом нашего внимания является эволюция внутреннего мира личности, представленная в мировоззренческой рефлексии двух героев, врачей по профессии - Юрия Живаго и Антуана Тибо. Оба персонажа отчетливо осознают существенную трансформацию собственных жизненных установок, вызванную войной. Однако содержание этой духовной эволюции, исходные нравственные позиции, реакция на внешнюю среду - новые социальные условия, новую жизненную ситуацию - у них неодинаковы, что дает дополнительные основания для исследования, поскольку подобный компаративный анализ расширяет и тем самым обогащает интересующий нас опыт «переходности».
В России соединение, взаимоперетекание трех наиболее катастрофических социально-исторических феноменов: мировой империалистической войны, социалистической революции и войны гражданской - поставило человека этого периода в ситуацию предельного напряжения, несущую в себе угрозу как физической смерти, так и духовного разложения. Драматизм событий обнаруживался тем более остро, что реальные последствия революции резко контрастировали с восторженными ожиданиями российской интеллигенции, мыслившей грядущие перемены как очищающий пожар, зарю новой, более совершенной жизни. Очевидная утопичность этих ожиданий сохраняла свое влияние и в первые послереволюционные дни. «Вы подумайте, какое сейчас время! - восклицает Юрий Живаго в разговоре с Ларой. - И мы с вами живем в эти дни! Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте: со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода!» [3, с. 196].
Погружение в реальный процесс осуществления этой свободы корректирует прежние, идеализированные ожидания и формирует новый жизненный опыт. «Таким новым была война, её кровь и ужасы, её бездомность и одичание. Таким новым были её испытания и житейская мудрость, которой война учила» [3, с. 212]. Возвращаясь домой, в Москву, Живаго осмысливает произошедшие перемены. Пребывая всё еще в горизонте своих прежних жизненных установок, он пытается пересилить внешнюю ситуацию: удержать собственный мир, сохранить самотождественно сть. Однако уже вскоре он осознает невозможность возвращения к старым устоям: «В течение нескольких следующих дней обнаружилось, до какой степени он одинок. Он никого в этом не винил. Видно, сам он хотел этого и добился. ...Странно потускнели и обесцветились друзья. Ни у кого не осталось своего мира, своего мнения. Они были гораздо ярче в его воспоминаниях» [3, с. 226].
Этот момент имеет особое значение для характеристики внутреннего мира Юрия Живаго, поскольку именно здесь отчетливо обнаруживаются признаки экзистенциальной ситуации - выбора себя. Что означает это одиночество? Каковы будут последствия его осознания? Потеря привычного, родного мира, «обесцвечивание» друзей легко может привести к позиции гордого одиночного противостояния новому чуждому миру. Но духовная эволюция Живаго идет в ином направлении, и в этом проявляется подлинная - христианская -сущность его личности. Он чувствует невозможность отделить себя от других, от своей страны, своего народа: «Всего же грустнее было, что вечеринка их представляла отступление от условий времени. Нельзя было предположить, чтобы в домах напротив по переулку так же пили и закусывали в те же часы. За окном лежала немая, темная и голодная Москва. <.. > И вот оказалось, что только жизнь, похожая на жизнь окружающих и среди нее бесследно тонущая, есть жизнь настоящая, что счастье обособленное не есть счастье...» [3, с. 227].
Серьезные перемены происходят и во внутреннем мире Антуана Тибо. Личность его во многом отлична от Юрия Живаго. Роже дю Гар рисует образ, в котором отчетливо выражены черты европейца - наследника Просвещения: последовательный позитивизм, ориентирующийся на науку как наиболее совершенную форму самоопределения человека в мире и исключающий всякую метафизику; не допускающий никаких сомнений атеизм и безапелляционная самоуверенность. Во внутреннем плане этому сопутствует ощущение самодостаточности, исключающее даже потребность в дружбе и любви. ««Чудесная штука - жизнь, - подумал он внезапно, охваченный вихрем радостных мыслей, и тотчас же подтвердил: - Да, я люблю жизнь. - Потом на мгновение задумался. - В сущности, мне никого не нужно». <...> Жизнь в его глазах представлялась прежде всего неким вновь открытым широким простором, куда должны с энтузиазмом бросаться такие деятельные люди, как он, и потому, говоря «любить жизнь», он, в сущности, хотел сказать: «любить самого себя», «верить в себя»» [1, с. 616].
Обнаружение провалов, нестыковок в его позитивистском мировоззрении (первый случай абсолютного бессилия медицины, ощущение безнадежности, неспособности спасти умирающего ребенка) впервые нарушает защищенные честным профессионализмом оптимизм и спокойствие Антуана. «Он чувствовал, что задеты сокровенные глубины его души: вера в себя, вера в действие, в науку, наконец, в жизнь» [1, с. 605]. Существенно, что Тибо упорно сопротивляется этому внутреннему дискомфорту, пытаясь сохранить сознательно выстроенное душевное равновесие. «Прежде всего условимся: мораль для меня не существует. Должно, не должно, добро, зло - для меня это только слова <.. > И я всегда был таким...» - рассуждает он сам с собой [1, с. 609]. И только столкновение с жестокостью войны, ранение и смертельное поражение газами не просто меняют его представления о мире, но стимулируют напряженную смысложизненную рефлексию, обращение к вопросам, намеренно исключаемым преуспевающим врачом довоенного периода из сферы своего сознания, и, в конечном счете, кардинально меняют его мировоззрение. «Я вот уже почти сутки, как погряз в «моральных проблемах». Погряз так, как никогда за всю свою жизнь» [2, с. 622], - замечает он в своем дневнике.
Размышления «о самом себе» приводят Антуана к переоценке его старательно выстроенной жизни. Он обнаруживает в себе проявления голоса нечистой совести, чувства ответственности, даже виновности, которое он в состоянии бодрствования из гордости держал где-то под спудом. ««И в самом деле, - подумалось ему, - мне не так уж пристало гордиться тем, что произошло после смерти Отца». (Он подразумевал под этим не только свою роскошную квартиру, но и связь с Анной, выезды в свет - все, что неотвратимо толкало его к легкой жизни)» [2, с. 514]. И как итог этого: «Антуан понял, что после смерти отца вступил на ложный путь» [2, с. 515].
Различия в направленности личностной эволюции героев Пастернака и дю Гара проявляются и в характере их самоидентификации. То, что для Живаго выступало изначальной данностью внутреннего опыта - ощущение себя частью своего народа, его традиций и ценностей, невозможность мыслить себя отдельно от других, - в случае Тибо выступает как результат его напряженной нравственной рефлексии, как его новое духовное обретение. Попытка разобраться в собственных моральных основаниях приводит Антуана к неожиданному результату: он обнаруживает наличие противоречия между сознательно принятыми им жизненными установками и глубинными внутренними интенциями, которые оказываются когерентными общепринятым нормам морали. «Я думаю о некоторых наиболее важных своих поступках. И убеждаюсь, что те, которые я совершал без принуждения, как раз и находились в кричащем противоречии с моими пресловутыми принципами. В решительную минуту я всегда приходил к выводам, которые моя «этика» не оправдывала. К выводам, которые подсказывала мне какая-то внутренняя сила, более властная, чем все мои привычки, все рассуждения» [2, с. 650]. Появление этого «когнитивного диссонанса» производит серьезную трансформацию во внутреннем мире доктора Тибо и порождает беспристрастный самоанализ, позволивший ему не только познать свою реальную сущность во всей ее полноте и противоречивости, но и осознать свою «обычность», сходство с другими людьми, ложность прежней претензии на исключительность. «... Да, война помогла мне открыть в себе самые гадкие инстинкты, то, что на дне человеческой натуры. Отныне я буду способен понять все слабости, все преступления, ибо подметил их в самом себе - как зародыш, как склонность» [2, с. 636].
Следует отметить, что оба персонажа, являющиеся предметом нашего анализа, принадлежат к категории так называемых «обычных» людей, обывателей - и это не случайно: именно на плечи простых обывателей ложится наиболее тяжелая в человеческом отношении ноша - /гере-живать ломку всех жизненных устоев. Вырванные из привычной жизни, погруженные, чаще всего помимо своей воли, в катастрофическую ситуацию, они, помимо необходимости адаптироваться к новым реалиям жизни, оказываются в ситуации экзистенциальной - стоящими перед выбором себя.
В жизненных устремлениях Живаго и Тибо нет экстремистской направленности, пафоса героя, нет желания выделиться. Для Живаго неприемлема симуляция величия послереволюционных перемен; мудрая умеренность жизненной позиции удерживает его от активной социальной деятельности в послевоенный период. В напряженной смысложизненной рефлексии он утверждается в приверженности и симпатии к рядовому человеку, своей повседневной, будничной жизнью поддерживающему и воспроизводящему традиционные основы бытия. «Что же мешает мне служить, лечить и писать? Я думаю, не лишения и скитания, не неустойчивость и частые перемены, а господствующий в наши дни дух трескучей фразы, получивший такое распространение, - вот это самое: заря грядущего, построение нового мира, светочи человечества. А на деле оно именно и высокопарно по недостатку дарования. Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения. Лучший урок в этом отношении Пушкин. Какое славословие честному труду, долгу, обычаям повседневности! Теперь у нас стало звучать укорительно мещанин, обыватель» [3, с. 344].
В романе Пастернака отчетливо просматривается симпатия автора именно к такому - обычному - человеку, придерживающемуся «срединного пути». Не случайно на его страницах безоглядно служащие идее герои погибают - будь то красный командир Стрельников или неопытные мальчики-добровольцы в рядах белой армии. Здесь обнаруживается фундаментальная, глубинная идея романа, формирующаяся в ходе его развертывания и результирующая трагический опыт переходности, стояния между жизнью и смертью - апология жизни1. Принятие жизни самой по себе как важнейшего дара, требующего трепетного отношения, постулируется автором, как выражение человеческой мудрости. «Человек рождается жить, а не готовиться к жизни. И сама жизнь, явление жизни, дар жизни так захватывающе нешуточны!» [3, с. 358]. Осмысливая практику первых послереволюционных лет в России, Живаго упрекает большевиков в том, что для них, как оказалось, суматоха перемен и перестановок стала единственной родной стихией: «Переделка жизни! Так могут рассуждать люди, хотя может быть и видавшие виды, но ни разу не узнавшие жизни, не почувствовавшие её духа, души ее. Для них существование это комок грубого, не облагороженного их прикосновением материала, нуждающегося в их обработке. А материалом, веществом, жизнь никогда не бывает. Она сама, если хотите знать, непрерывно себя обновляющее, вечно себя перерабатывающее начало, она сама вечно себя переделывает и претворяет, она сама куда выше наших с вами тупоумных теорий [3, с. 401].
Приятие жизни, независимо от ее характера и содержания, не является в романе Пастернака признаком пассивности, беспринципного конформизма - напротив: оно предполагает наличие устойчивых внутренних оснований, обеспечивающих способность вынести все ее испытания. Именно это - сохранение нравственной идентичности - выступает в качестве предпосылки подлинности бытия, определяющей жизненную позицию Живаго. Разрушение традиционных основ жизни побуждает его сосредоточиться на своей внутренней жизни, практически пренебрегая жизнью внешней - в этом объяснение его бытовой деградации: Юрий Андреевич осознает невозможность вписаться в новую социальную жизнь, чуждую ему по самой сущности - именно потому, что ему удалось сохранить целостность своего внутреннего мира.
В мироощущении доктора Тибо отношение к жизни не достигает подобной глубины, оставаясь в пределах рациональной целесообразности. Отсюда и умаление им ее значения - как средство рационального примирения с надвигающейся смертью. «Жизнь! Это такая малость... (И я считаю так вовсе не потому, что мои дни сочтены. Это относится ко всякой жизни.) Архиизбито: короткая вспышка во тьме нескончаемой ночи и т.д.» [2, с. 695]. Существенно различно и отношение героев к смерти. Если Живаго воспринимает ее с позиций христианского мировоззрения - в свете Воскресения, то Тибо, так и не преодолевший своего позитивизма и избегающий «метафизики», погружается в небытие. «Инстинктивно отвергаю метафизический обман. Никогда еще небытие не казалось мне столь наглядным. Я приближаюсь к нему в ужасе, все во мне противится, но ни малейшего поползновения отрицать небытие, искать спасения в нелепых надеждах» [2, с. 674]. В своей борьбе со страхом смерти Антуан претерпевает различные стадии - от примирения с неизбежным
(«Этой ночью, - в первый раз, в последний, быть может, раз, - я мог думать о смерти с каким-то спокойствием, с каким-то трансцендентным равнодушием. Освободился от страхов, был почти чужд своей тленной плоти. Я бесконечно малая и ничем не примечательная частица материи» [2, с. 673]) до полного отчаяния («Теряю мужество. Все во мне рушится» [2, с. 678]), естественного при его позитивистской ориентации. Антуан осознает ее ущербность, но все же не способен ее преодолеть: «Все было бы по-иному, если бы я мог принять. Но для этого пришлось бы искать опоры в метафизике. А я... » [2, с. 685].
Напротив, именно то, что Антуан Тибо определяет как метафизику, является опорой и глубинной внутренней ориентацией доктора Живаго. Жажда творчества, потребность выразить и тем самым сохранить свое понимание жизни, ее сакральный смысл сопровождает Живаго на протяжении всей жизни как главная, важнейшая его интенция. «Жилая комната доктора была пиршественным залом духа, чуланом безумств, кладовой откровений», - так описывает Пастернак одинокое, почти лишенное признаков материального существования и полностью поглощенное творчеством пребывание Живаго в его последнем пристанище - в Камергерском переулке [3, с. 559]. Стихи - выражение его подлинной сущности, подлинного Я, стали настоящим итогом его, полной драматизма, сумбурной жизни.
Знаменательно, что творчество увязывается Пастернаком с образом смерти. «Совершенно ясно, что мальчик этот - дух его смерти или, скажем просто, его смерть, - размышляет Юрий Андреевич в состоянии болезненного сна. - Но как же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму, разве может быть польза от смерти, разве может быть в помощь смерть?» [3, с. 261]. Этот момент особенно важен для понимания рассматриваемой проблемы: писатель отчетливо формулирует здесь экзистенциальную проблему. Речь идет о своеобразной инициации -о переходе от неподлинного к подлинному бытию. Смерть означает здесь не что иное, как отказ, освобождение от рабства внешнему, утилитарному, и - обретение внутренней свободы, присущей духовному бытию. С позиций такого понимания семантика бытовой деградации и смерти Живаго существенно меняется, ибо настоящим итогом его жизни становится его творчество, в котором символически выражено внутреннее видение пережитых событий, вся совокупность экзистенциального опыта человека переходной эпохи. «Сейчас, как никогда, ему было ясно, что искусство всегда, не переставая, занято двумя вещами. Оно неотступно размышляет о смерти и неотступно творит этим жизнь. Большое, истинное искусство, то, которое называется Откровением Иоанна, и то, которое его дописывает» [3, с. 138].
Размышления о смерти являются важнейшим фактором, стимулировавшим творческую активность и духовную эволюцию и доктора Тибо. Неотвратимость близкой смерти побуждает Антуана искать способа оставить свой след в этом мире, оправдав тем самым свое земное существование. Он избирает два доступных ему средства: подробное изложение течения своей болезни, способное послужить науке, и дневник для маленького Жан-Поля - возможность запечатлеть свое «Я» и передать свой экзистенциальный опыт.
Еще раз отметим, что вызванные войной трансформации внутреннего мира героев Б. Пастернака и Р. дю Гара содержательно неодинаковы, имеют разную направленность. Усилия Живаго имеют целью сохранить свою идентичность, сформированную еще в юности и служащую ему опорой в катастрофической ситуации революции и войн. Для Антуана Тибо, напротив, война и связанные с ней переживания способствуют его духовному преображению: разрушают его прежнюю самоуверенность и спокойствие, стимулируют нравственную рефлексию и движение к подлинному бытию. «Не будь войны, я пропал бы, - восклицает потрясенный этим открытием Антуан. - Никогда бы не очистился от этой скверны» [2, с. 516]. Несмотря на указанные различия, оба романа являют одинаково ценный опыт осмысления человека, оказавшегося в катастрофической ситуации войн и революций. Стоит отметить уже само указание авторов на необходимость экстериоризации этого опыта: и Живаго, и Тибо оставили после себя записи, видя в этом главный смысл своего существования.
Обращает на себя внимание неоднозначность в оценке войны - в аспекте ее воздействия на характер отношений между людьми и на глубинные нравственные устои личности. Особенно отчетливо это проявляется в романе Роже дю Гара, где сопоставлены все различные позиции в отношении к войне - от крайнего активного неприятия до высокопарно-патриотического одобрения. В рассматриваемом аспекте представляет интерес экзистенциальный смысл войны как события человеческой жизни, испытания ее подлинности. Здесь внимание авторов смещается от внешнего, социального к внутреннему, личностному - в результате происходит аксиологическая инверсия - обнаруживается позитивный смысл войны. «Се- годня я думаю о войне иначе, чем всегда, - пишет Антуан Тибо в своем дневнике. - Вспоминаю слова Даниэля в Мезоне: «Война дает тысячи и тысячи поводов к редчайшей человеческой дружбе...» <...> И все-таки он прав: там была какая-то жалость и великодушие, какая-то взаимная нежность. <...> Меньше маленькой лжи, меньше маленьких подлостей, меньше злобы, чем в мирной жизни. Там так нуждаются друг в друге. Там любишь и помогаешь, чтобы тебя любили и тебе помогали. Меньше личных антипатий, нет зависти (на фронте). Нет ненависти. (Нет даже ненависти к бошу, жертве той же нелепости.) И потом еще одно: силою вещей война - время раздумий. И для некультурных и для образованных. Раздумий простых, глубоких» [2, с. 694]. Живаго также признает обретение им «житейской мудрости, которой война учила».
Подчеркнем, что содержащееся в рассматриваемых произведениях утверждение о позитивности опыта войны, могущее вызывать естественное и вполне понятное неприятие у пацифистски настроенных читателей, не означает оправдания войны, но должно прочитываться в указанном выше экзистенциальном смысле - как опыт самопознания и самопреодоления человека, погруженного в катастрофическую социальную ситуацию и обретающего благодаря этому опыту спасительную возможность самосохранения. Актуализация, рефлексия этого опыта, представленная в произведениях литературы, позволяет говорить о соте-риологической функции искусства.
Список литературы Сотериология искусства: опыт осмысления человека переходных эпох
- Мартен дю Гар Р. Семья Тибо. Т. 1. Пер. с фр. М.: Правда, 1987.
- Мартен дю Гар Р. Семья Тибо. Т. 3. Пер. с фр. М.: Правда, 1987.
- Пастернак Б. Доктор Живаго//Пастернак Б. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 2. СПб.: «Азбукаклассика», 2010.