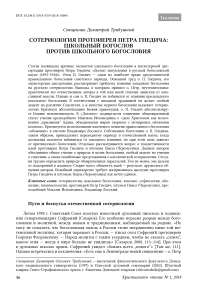Сотериология протоиерея Петра Гнедича: школьный богослов против школьного богословия
Автор: Трибушный Димитрий
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Статья в выпуске: 1 (78), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена критике элементов школьного богословия в магистерской диссертации протоиерея Петра Гнедича «Догмат искупления в русской богословской науке (1893-1944)». Отец П. Гнедич - один из наиболее ярких представителей православного богословия советского периода. Основной труд о. П. Гнедича, его магистерская диссертация, рассматривает проблему влияния западного богословия на русскую сотериологию. Выводы, к которым пришел о. Петр, неутешительны: практически все отечественные авторы в той или иной степени зависели от ино- славной мысли. Однако и сам о. П. Гнедич не избавился от влияния прозападного школьного богословия. В соответствии с западной традицией он делает особый акцент на распятии Спасителя, а в качестве первого богословия выделяет сотерио- логию. Критикуя абсолютизацию Божия правосудия, о. П. Гнедич абсолютизирует Божию неизменяемость. В «Догмате» подвергается сомнению общецерковный статус учения преподобного Максима Исповедника о «деле Христовом как исполнении „призвания“ Адама, объединении миров тварного с нетварным, обожении космоса». Критикуется использование ключевого понятия православного богословия «обожение» в системе Владимира Лосского. Собственное богословие о. П. Гнедича, таким образом, принадлежит переходному периоду в отечественной науке, когда догматика пытается избавиться от западного влияния, но при этом сама зависит от критикуемого богословия. Отдельно рассматривается вопрос о тождественности идей протоиерея Петра Гнедича и игумена Павла (Черемухина). Данных авторов объединяют общее учение о природе и целях богословия, особый акцент на учении о спасении, а также ошибочные представления о католической сотериологии. Сегодня трудно определить природу обнаруженных параллелей. Тем не менее, мы далеки от подозрений в плагиате. Скорее всего, общность идей - результат дружеского об- щения авторов. Подобный перихорезис требует воспринимать наследие протоиерея Петра Гнедича и игумена Павла (Черемухина) как нечто единое.
Сотериология, школьное богословие, кенозис, софиология, обожение, пневматология, протоиерей петр гнедич, игумен павел (черемухин), пре- подобный максим исповедник, владимир лосский
Короткий адрес: https://sciup.org/140223522
IDR: 140223522
Текст научной статьи Сотериология протоиерея Петра Гнедича: школьный богослов против школьного богословия
Пути и беспутья отечественной сотериологии
Летом 1958 г. Советский Союз посетил известный духовный писатель и подвижник схиархимандрит Софроний (Сахаров). Его особенно поразил разрыв между богословием и молитвой, между новым и традиционным, наблюдаемый на родине. «Не могу не сожалеть, что богословская мысль в России стоит несравненно ниже той интенсивной молитвы, которая поражает в России, — писал отец Софроний протоиерею Георгию Флоровскому. — Народ молится с таким усердием, чтобы не сказать „огнем“, какого огня — нигде в мире больше не увидишь» [Сахаров, 2008, 113–114]. При этом в духовных школах архим. Софроний увидел «боязнь всего „нового“» [Там же, 111]. Однако встречались и исключения: «Есть еще в Ленинграде некий священник — о. Петр
Гнедич, по происхождению своему культурный человек, из семьи известных Гнеди-чей. Он в молодости своей „застал“ еще высококультурную среду и легко разбирается в философских проблемах, что стало большой редкостью в России в силу всеобщего перерыва занятий этим „бесполезным“ предметом. <…> Мне показалось весьма интересным „совпадение“ его проблематики, или „пути“, с Вашим: он тоже „начинает“ со Христа и с вопроса спасения. <…> Лично я боюсь, что именно смелость мысли о. Петра была причиной его удаления из Ленинградской академии» [Там же, 112–113]. Пути богословов действительно пересеклись в магистерской диссертации Гнедича «Догмат искупления в русской богословской науке (1893–1944)».
«Догмат» — основной труд протоиерея Петра Гнедича — представляет собой объемное исследование (более 500 машинописных страниц плюс 158 страниц приложения). Он до сих пор не издан полностью и не получил надлежащей оценки1.
В «Догмате» методология «Путей русского богословия» применяется к сотериоло-гии. Отец Петр рассматривает практически все основные произведения отечественной мысли XIX–XX вв., так или иначе посвященные идее спасения, в историческом контексте. Его выводы неутешительны: подавляющее большинство русских богословов в той или иной степени находились под западным влиянием. Если острая критика Флоровского практически не коснулась А. С. Хомякова и святителя Филарета (Дроздова), то в случае о. П. Гнедича к святителю Филарету можно добавить патриарха Сергия (Страгородского) и самого отца Георгия.
Основными недостатками отечественной сотериологии, помимо несамостоятельного характера, согласно о. П. Гнедичу, являются следующие: «неправильное понятие о Боге, необоснованность в Священном Писании и Церковном Предании» [Гнедич, 2007, 429–430].
Спасение о. П. Гнедич, как и подобает ученику Флоровского, видит в освобождении от подавляющего влияния инославной мысли, в возвращении к отцам.
Как известно, критика богословия митр. Макария и вестернизированной догматики в целом стала общим местом отечественного богословия еще в ХIХ в. Так, например, А. С. Хомяков писал В. А. Жуковскому: «Стыдно, что богословие как наука так далеко отстала и так страшно запутана. Когда предстает средство выдвинуть ее из темноты, этому делу способствовать обязан всякий, кто может… Правда ваша: надобно спешить, а не то отцы напутают. Макарий провонял схоластикой. Она во всем высказывается, в беспрестанном цитировании Августина, истинного отца схоластики церковной, в страсти все дробить и все живое обращать к мертвому… Стыдно будет, если иностранцы примут такую жалкую дребедень за выражение нашего православного богословия, хотя бы даже в современном его состоянии» [Яковлев, 2003, 45].
Несмотря на то, что в своих трудах о. П. Гнедич всего лишь продолжил дореволюционную традицию, его богословие стало предметом ожесточенной полемики, в которой не последнюю роль играло человеческое, слишком человеческое2. Отца
Петра обвиняли в модернизме, сторонников возрождения старой школы пугала «расплывчатая свобода в богословских мнениях».
При этом критики отца Петра не замечали, насколько сам автор «Догмата» зависит от школьного богословия.
Школьное богословие против школьного богословия
Уже само выделение сотериологии в качестве первого богословия является следствием использования схоластического метода («страсти дробления», по Хомякову). Отец Петр настаивает: «Средоточие христианской проповеди — „Христос распятый“» [Гнедич, 2007, 24]. Но распятие теряет свой смысл вне пасхального контекста: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша» (1 Кор 15:14).
Ни отеческий Никео-Цареградский Символ веры, ни схоластическое «Точное изложение» преподобного Иоанна Дамаскина не рассматривают распятие как средоточие христианского богословия. Отделение искупления от творения, триадологии от эсхатологии искусственно.
Особая акцентуация на таинстве Голгофы характерна скорее для критикуемого западного мировоззрения. Православие, в отличие от католичества, «есть христианство не патетически-голгофское, а радостно-пасхальное, Воскресное» [Лот-Бородина, 2015 web; Кривошеин, 1986].
Инерция схоластического мышления определяет отношение отца Петра Гнеди-ча к кенотическому богословию Булгакова и Флоровского. В «Догмате» отец Петр критикует представление о Голгофе как о следствии резкого различия и даже противопоставления любви Божией и справедливости, когда каждому свойству Божества приписывается «свойственное ему действие», а значит, «если грешник не получит возмездия — будет не удовлетворено правосудие, если грешник будет наказан — останется неудовлетворенной благость» [Гнедич, 2007, 27–28]. Гнедич справедливо отмечает: «Здесь проявляется то странное понятие о Боге и Его свойствах, когда действие приписывается не Самому Богу, Единому в Своем Существе и действиях, а каждому свойству в отдельности» [Там же, 72]. Иначе, существование Бога «школьного богословия» определяется Его свойствами. Он не свободен в абсолютном смысле.
При этом сам автор «Догмата» абсолютизирует Божественную неизменяемость. Согласно школьному богословию, «изменение отношения к человеку в существе Божием совершается чрез удовлетворение, принесенное крестной жертвой Христа Спасителя Божественному правосудию» [Там же, 296]. Отец Петр выступает против подобной идеи: «При таком понимании изменение касается даже Существа Божия. Но иначе и быть не может, так как само понятие „удовлетворения“ предполагает переход Бога (или Его существенного свойства) из состояния неудовлетворенности в состояние удовлетворенности» [Там же, 296–297]. Допускать изменение в Божественной жизни как реальный факт и основание для сотериологии в данном контексте действительно невозможно. Многочисленные антропоморфизмы Ветхого Завета не имеют онтологического основания. Предание свидетельствует о них как о педагогическом приеме. «Бог употребляет подобные выражения, — говорит свт. Иоанн Златоуст, — чтобы подействовать на людей более грубых. Он, когда говорил, заботился не о Своем достоинстве, но о пользе слушающих. Неужели ты хотел бы, чтобы Он, беседуя с иудеями, говорил, что Он не гневается и не ненавидит злых, так как ненависть есть страсть; что Он не взирает на дела человеческие, так как зрение свойственно телам; что Он и не слышит, так как и слух принадлежит плоти? Но отсюда вывели бы другое нечестивое учение, будто все совершается без Промысла. Избегая подобных выражений о Боге, многие тогда совершенно не знали бы, что есть Бог; а если бы не знали этого, то все погибли бы» [Там же, 433].
2007, 235]. См. также письма о. Петра Гнедича архим. Борису (Холчеву) [Тайна жизни, 2014; Александрова-Чукова, 2015 web].
Однако если антропоморфизмы, свидетельствующие об изменяемости в Боге, неактуальны для сотериологии, возможно ли говорить о неизменяемости Бога вообще? Допустимо ли предполагать процесс во внутритроичной жизни, кенозис в особом понимании?3
Основания для кенотического богословия мы находим в Священном Предании Церкви. Прежде всего это Откровение Самого Спасителя: «Отец Мой более Меня» (Ин 14:28). Православная экзегеза позволяет рассматривать эти слова не только в христоло-гическом, но и в триадологическом аспекте, как свидетельство о монархии Бога Отца.
Мы вправе предположить, что предельное истощание Голгофы отражает вневременный кенозис внутритроичной жизни: «Каждая из Ипостасей старается в почтительности предупреждать Две Другие; как и Каждая желает послушанием умалиться перед Двумя Другими» [Николай Сербский, 2003, 464; Клеман, 1994, 67].
При этом понятие «кенозис», используемое в непривычном триадологическом контексте, требует особого понимания. Изменяемость Бога не обязательно связывать с умалением или восполнением. По мысли критикуемого в «Догмате» А. М. Тубе-ровского, «Самоограничение, самоотречение, самопожертвование Бога не означат умаления, потери и тому подобных статически-количественных перемен… В Боге совершалась, при Его неизменяемости по существу, перемена динамического характера» [Гнедич, 2007, 225].
В последнем утверждении отец Петр видит противоречие, хотя точнее рассматривать идею, предложенную Туберовским, как антиномию. Только антиномия может приблизить верующий ум к таинству неизменяемой изменяемости Бога.
Интересно, что далее о. П. Гнедич отмечает: «Действие Божие нельзя считать ограниченным мировыми законами — ибо „идеже хощет Бог, побеждается естества чин“» [Там же, 225]. Следуя его логике, законы не властны над Богом в Его отношении к миру, но при этом властны во внутритроичной жизни. Тем самым отец Петр, так же как и сторонники школьного богословия, лишает Господа свободы, а нас ставит перед следующими вопросами: если Бог абсолютно бесстрастен и неизменяем, кто был субъектом страдания на Голгофе; были ли страсти только внешним актом, или они достигали глубины Божественной жизни; переживает ли Бог страдания твари, и, если переживает, как это соотносится с Его неизменяемостью?
В учении о неизменяемости Бога школьный эссенциализм о. П. Гнедича вступает в противоречие с личным опытом христианина. Хотя автор «Догмата» исповедует «единство метафизики и мистики (опыта)» [Там же, 451] как одну из основных особенностей православного богословия, антропоморфному Богу Ветхого Завета он противопоставляет статичный, безжизненный Абсолют, Бога философов. Можно богословство-вать о неизменяемой сущности, но можно ли обращаться к ней в молитве?
Школьное богословие о. П. Гнедича
против софиологии В. Н. Лосского?
Один из сюжетов «Догмата» — спор протоиерея Петра Гнедича с софийным мировоззрением, представленным в его книге не только Булгаковым, но и А. М. Тубе-ровским, а также В. Н. Лосским. Под софийным мировоззрением мы понимаем православный вариант философии всеединства или «панентеизма». Софийные мыслители, к числу которых, помимо уже упоминавшихся авторов, мы относим прпп. Максима Исповедника и Иустина Сербского, свт. Григория Паламу, были озабочены вопросом присутствия Бога в твари. Основные особенности софийного мировоззрения следующие: радикальное сближение Творца и твари4, учение об изначальном предназначении универсума к обожению. В софийной перспективе сотериология не выделяется в качестве первого богословия. Она рассматривается как часть грандиозного замысла Пресвятой Троицы о судьбах мира и человека. Развивая идею обожения, софиология видит в искуплении один из этапов преображения, но не завершенное, самодостаточное событие. Нет Голгофы без Воскресения, Воскресения без Вознесения, Вознесения без Пятидесятницы. Софиология воспринимает сотериологию в ее космическом измерении. Более того, исходя из изначальной соотнесенности Творца и твари, все вышеупомянутые авторы (за исключением В. Н. Лосского) разрабатывали модель альтернативной истории, согласно которой Боговоплощение не связано исключительно с сотериологией. По их мнению, Бог стал бы человеком даже в том случае, если бы первые люди не пали в раю5.
Именно в этом смысле прп. Максим Исповедник «богословски наименее сотериоло-гичный» [Лосский, 2003, 217], а «о. Сергий [Булгаков] часто искал, чем заменить слово „спасение“, которое часто становится одиозным, так как не выражает сути дела и, таким образом, не остается лишь термином, но меняет эту суть» [Рейтлингер, 2011, 67].
Подобное мировоззрение, несомненно, противоречит основополагающей идее «Догмата» о том, что «все богословие Православной Церкви можно назвать сотерио-логичным» [Гнедич, 2007, 23]. Неудивительно, что отец Петр Гнедич выступает с критикой софийных идей прп. Максима Исповедника.
Учение прп. Максима о «деле Христовом как исполнении „призвания“ Адама, объединении миров тварного с нетварным, обожении космоса» [Там же, 416] отец Петр готов принять только как частное богословское мнение. Его настораживает тот факт, что «здесь „искупление“ является одним из моментов, обусловленных грехом и исторической действительностью мира падшего, в котором имело место воплощение» [Там же, 416].
По всей вероятности, о. П. Гнедич основывал свои представления о богословии преподобного исключительно на изложении Лосского. На самом деле прп. Максим настаивал на церковном характере своего мировоззрения: «Святые, усвоившие через своих предшественников многие божественные тайны, доставшиеся им по преемству от спутников и служителей Слова, получивших непосредственно от Него наставление в знании сущего, говорят, что ипостась всех возникших вещей была поделена пятью делениями» [Максим Исповедник, 2005, 280]6.
Велик соблазн свести рассматриваемое учение преподобного к теологуме-ну или неоплатоническому влиянию [Морескини, 2011, 842], но ничто не мешает нам увидеть в нем выражение православия. Предание есть жизнь Духа и в Духе, и, как всякая жизнь, оно несводимо к формулам. Церковное — это то, во что верили все, всегда, везде. При этом уникальное, единичное также может восприниматься как Предание, если оно не противоречит церковному мировоззрению. Так рыбаки приняли философский «Логос» святого ап. Иоанна Богослова. Богословие прп. Максима Исповедника — возвышенное выражение общецерковного учения о том, что «сей есть плод пришествия Спасителева в мир сей: ибо с тем Он благоволил явиться на земли, да разстоящая соединит, разлученная совокупит, и во всем да устроит мир и соединение» [Платон митр., 2015 web]. Неслучайно в трудах православных исследователей от С. Л. Епифановича до Оливье Клемана критикуемое Гнедичем учение преподносится как православное без каких-либо комментариев.
Рассматриваемый фрагмент играет важную роль в богословии Владимира Лос-ского, обедняющего, по мнению о. П. Гнедича, термин «спасение»: «Автор „Очерка“ не только заменяет один термин другим — спасение обожением, но противополагает их. Спасение, по его мнению, отрицательный термин, указывает на устранение препятствия» [Гнедич, 2007, 417].
При этом сам о. П. Гнедич расширяет сферу его употребления: «Если воплощение Слова было обусловлено „условиями исторической действительности мира после падения“, то и вне этих условий Он всегда останется нашим Спасителем, вступив с человечеством в соединение „неразлучия“. Поэтому едва ли мы можем иметь другое богословие, кроме богословия сотериологического» [Там же, 417]. Однако Домостроительство завершается Пятидесятницей. Возможно ли говорить о пневматологическом характере православного богословия?
Владимир Лосский широко известен как один из наиболее непримиримых оппонентов Булгакова. Куда менее он известен в качестве православного софиолога. Между тем «все богословие В. Лосского, сконцентрированное на нетварной благодати, на паламитской концепции божественной энергии, будет пытаться выразить традиционным и строго ортодоксальным путем фундаментальную интуицию о. Булгакова» [Гаврюшин, 2005, 340–341]7. Интересно, что в случае Лосского критика о. П. Гнедича направлена на положения, характерные для софийного мировоззрения. Школьным богословием они были основательно забыты, в то время как неопатристический синтез воспринимает их как вполне традиционные.
Недооценивая пневматологический аспект Домостроительcтва, «Домостроительство Святого Духа», отец Петр Гнедич критикует православного богослова Владимира Лосского с западных позиций8.
Перихорезис идей: протоиерей Петр Гнедич
и игумен Павел (Черемухин)
Если Гнедич сосредоточил свое внимание на обзоре и критике школьной сотери-ологии, то реконструкции альтернативного — святоотеческого — учения о спасении посвятил свои труды его товарищ, игумен Павел (Черемухин)9. Игумен Павел оставил небольшое, но и доныне изучаемое наследие. Прежде всего это работы «Константинопольский Собор 1157 г. и Николай, епископ Мефонский» и «Учение о Домостроительстве спасения в византийском богословии (епископ Николай Мефонский, митрополит Николай Кавасила и Никита Акоминат)»10.
«Двух Петров», как называла их преподобноисповедница Параскева (Матиешина) [Параскева житие, 2015, 62]11, объединяло многое: общая судьба, общие представления о богословии, общие ошибки.
Так, в «Учении о Домостроительстве спасения» выделяются основные черты византийского богословия, отличающие его от богословия западного: православность, глубокая, взаимная связь богословия с истинным православным духовным опытом, реализм, или онтологизм, глубокий апофатизм, сотериологичность, традиционность, литургичность. Подобные черты выделяет и о. П. Гнедич в «Догмате».
Как и протоиерей Петр Гнедич, игумен Павел считает сотериологию первым богословием. При этом он не замечает, что противоречит сам себе и Преданию: «Хотя в творениях свв. отцов древней Церкви от свт. Афанасия Александрийского до преподобного Иоанна Дамаскина включительно, имеется множество сотериологических высказываний, но они почти не выделялись свв. отцами из их триадологических, христологических, а также аскетических и гомилетических произведений. Защищая православное учение о Святой Троице и о Лице Господа Иисуса Христа против ересей того времени, они защищали вместе с тем и Священное Предание о Домостроительстве спасения, которое само основывается и тесно связано с учением о Святой Троице и Лице Богочеловека» [Черемухин, 2007б, 190].
Особый интерес для «двух Петров» представляет наследие забытого на Руси богослова еп. Николая Мефонского и деяния Константинопольских Соборов 1156–1157 гг., на которых, согласно отечественным исследователям, были установлены «общие принципы православной сотериологии». Однако, как подчеркивает диакон Павел Ермилов, «при обозрении источников оказывается, что вопросы о сотериологии вовсе не лежали в поле зрения спорящих сторон, а находились где-то на периферии обсуждения… сотериологическая проблематика служит лишь фоном для основополагающих вопросов, ставших предметом спора» [Ермилов, 2007, 273].
Характерно, что и прот. П. Гнедич, и иг. Павел (Черемухин) приписали католикам несуществующее учение о принесении Голгофской Жертвы Богу Отцу12.
Сегодня трудно, если вообще возможно, определить природу обнаруженных параллелей. Кто является автором идей, кто их продублировал, возникли ли они в результате дружеского общения, мы не знаем13. Мы также далеки от подозрений в плагиате. Однако взаимопроникновение идей требует воспринимать наследие прот. П. Гнедича и иг. Павла (Черемухина) как нечто единое.
Жизнь и труды «двух Петров» — замечательное явление в истории отечественного богословия. И прот. П. Гнедича, и иг. Павла (Черемухина) отличают не только талант, эрудиция, трудолюбие, но и столь редкое свойство, как воля к богословство-ванию. Богословие друзей — не дань церковному послушанию или ступенька на карьерном пути, но сама жизнь, форма существования, что роднит их с изучаемыми ими святыми отцами. В случае с отцом Петром мы можем говорить и о мученичестве ради богословия — споры о «Догмате» серьезно подорвали его здоровье и, несомненно, ускорили смерть.
Наследие прот. П. Гнедича и иг. Павла (Черемухина) принадлежит переходному периоду в отечественной науке, когда догматика пытается избавиться от западного влияния, но при этом сама зависит от критикуемого богословия. О парадоксальности этой ситуации писал игумен Сильвестр (Стойчев): «Обличители школьного богословия, всюду видевшие западное влияние, впоследствии сами стали объектом критики. Их тоже уличали в заимствованиях, влияниях, отступлении от святоотеческого предания» [Стойчев, 2012, 112].
Отметим также, что в попытке выделить из Предания сотериологию как первое богословие и прот. П. Гнедич, и иг. Павел (Черемухин) порой оставляют поле научного исследования и прибегают к методам альтернативной истории. Так возникает несуществующая в реальности католическая сотериология, а православное предание сокращается до представления о святоотеческом наследии начала ХХ века, когда отцы софиологической направленности не были ни прочитаны, ни усвоены14.
-
12 См.: [Ермилов, 2007]. Замечания отца Павла Ермилова нужно было бы переадресовать и Гнедичу, считавшему, что решение Константинопольского Собора 1156 г. «следует сравнить с… определениями Римской Церкви, где указывается, что Христос „удовлетворяет Отцу“» [Гнедич, 2007, 448].
-
13 Интересно, что в библиографии, посвященной еп. Николаю Мефонскому, Гнедич при всей своей скрупулезности почему-то не ссылается на опубликованную в «Богословских трудах» (№ 1 за 1960 г.) статью о. Павла (Черемухина) «Константинопольский Собор 1157 г. и Николай, епископ Мефонский».
-
14 Речь идет, прежде всего, о прп. Максиме Исповеднике и свт. Григории Паламе.
Список литературы Сотериология протоиерея Петра Гнедича: школьный богослов против школьного богословия
- Александрова, Суздальцева (2007) -Александрова Т. Л., Суздальцева Т. В. Русь уходя-щая. Рассказы митрополита Питирима. СПб., 2007.
- Александрова-Чукова (2015) web - Григорий (Чуков), митр. Ленинградский и Новгородский, Александрова-Чукова Л. К. Митрополит Григорий (Чуков): вехи служения церквиБожией. Часть 6: Слова митрополита Григория (Чукова) в день памяти cвятого апостолаи евангелиста Иоанна Богослова. Краткий очерк истории восстановления богословскогообразования и фрагменты дневника 1945-1955 гг. // Портал «Богослов. ру». htp://www. bogoslov.ru/text/1151751.html (дата обращения 04.06.2015).
- Бальтазар (1998) -Бальтазар Х. Урс фон. Вселенская Литургия. Преподобный МаксимИсповедник//Альфа и Омега. 1998. № 2 (16).
- Гаврюшин (2005) -Гаврюшин Н. К. Русское богословие. Очерки и портреты. Н. Нов-город: Глагол, 2005.
- Гнедич (2007) -Гнедич П., прот. Догмат искупления в русской богословской науке(1893-1944). М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007.
- Ермилов(2007)-Ермилов П. Несколько замечаний по поводу статей иеромо-наха Павла Черемухина//Епископ Николай Мефонский и византийское богословие.Сб. исслед./Ред. П. В. Ермилов, А. Р. Фокин. М.: Центр библейско-патрол. исследований;Империум Пресс, 2007.
- Клеман (1994) -Клеман О. Истоки. Богословие отцов Древней Церкви. Центр по изу-чению религий, 1994.
- Комаров (1962) -Комаров К. Магистерский диспут в Московской Духовной Акаде-мии//Журнал Московской Патриархии. 1962. № 8.
- Кривошеин (1986) -Василий (Кривошеин), архиеп. Несколько слов по вопросу о стиг-матах//Журнал Московской Патриархии. 1986. № 4.
- Лосский (2003) -Лосский В. Н. Боговидение. М.: АСТ, 2003.
- Лосский (1996) -Лосский В. Спор о Софии. Статьи разных лет. М.: Изд-во Свято-Вла-димирского братства, 1996.
- Лосский (1996б)-Указ Московской Патриархии Преосвященному МитрополитуЛитовскому и Виленскому Елевферию//Лосский В. Спор о Софии. Статьи разных лет. М.:Изд-во Свято-Владимирского братства, 1996.
- Лот-Бородина (2015) web - Лот-Бородина М. Критика «Русского Христианства» //Электронная библиотека Одинцовского благочиния. htp://www.odinblago.nichost.ru/ path/52/3 (дата обращения: 04.06.2015).
- Максим Исповедник (2005) -Максим Исповедник, прп. Затруднение ХLI. На слова«Природы обновляются и Бог становится человеком»//Космос и душа. Учение о все-ленной и человеке в античности и в Средние века (исследования и переводы). М.: Про-гресс-Традиция, 2005.
- Максим Исповедник (2006) -Максим Исповедник, прп. О различных недоуменияху Григория Богослова к Иоанну, Архиепископу Кизическому, II//Он же. О различных не-доумениях у святых Григория и Дионисия (Амбигвы). М.: Институт философии, теологиии истории св. Фомы, 2006.
- Морескини (2011) -Морескини К. История патристической философии. М.: Греко-ла-тинский кабинет Ю. А. Шичалина, 2011.
- Муравьев (2010) -Муравьев Н. И. Московская духовная академия в лицах (1943-1948)//Богословский вестник. Сергиев Посад, 2010. № 11-12.
- Никодим Святогорец (2011) -Никодим Святогорец, прп. Апология сказанного о Го-споже нашей Богородице в книге «Невидимая брань» из книги «Назидательное руковод-ство, или О хранении пяти чувств»//Неллас П. Обожение: Основы и перспективы право-славной антропологии. М.: Никея, 2011.
- Николай Сербский (2003) -Николай Сербский, свт. Беседы. Книга вторая. М.: Лодья,2003.
- Параскева житие (2015) -Преподобноисповедница Параскева (Матиешина): Житие.Письма. М.: ПСТГУ, 2015.
- Петров (2007) -Петров В. В. Максим Исповедник: онтология и метод в византий-ской философии VII в. М.: ИФРАН, 2007.
- Платон митр. (2015) web - Платон, митр. Московский и Калужский. Слово на Рож-дество Христово // Сайт Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. htp://www.stsl.ru/lib/platon3/ platon3-24.php (дата обращения: 09.06.2015).
- Рейтлингер(2011)-Рейтлингер Ю. Н. (сестра Иоанна). Воспоминания. Начало1980-х гг.//Ю. Н. Рейтлингер (сестра Иоанна) и о. Сергий Булгаков. Диалог художникаи богослова: Дневники. Записные книжки. Письма. М.: Никея, 2011.
- Роуэн (2009) -Роуэн У. Богословие В. Н. Лосского: изложение и критика. К.: ДУХ IЛIТЕРА, 2009.
- Сахаров (2008) -Софроний (Сахаров), архим. Переписка с протоиереем Георгием Фло-ровским. Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь; Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2008.
- Стойчев (2012) -Сильвестр (Стойчев), игум. К вопросу о западном влиянии в бого-словском наследии святителя Петра Могилы//Труди Київської Духовної Академiї. 2012.№ 17. С. 112.
- Тайна жизни (2014) -Мы знаем тайну жизни. Судьба и пастырский подвиг архим.Бориса (Холчева). М.: ПСТГУ, 2014.
- Трибушный (2014) -Трибушный Д., чтец. Онтология преподобного Иустина Челий-ского: незавершенные сюжеты//Живой родник. 2014. № 1 (125).
- Умное Небо (2002) -Умное Небо. Переписка протоиерея Александра Меня с монахи-ней Иоанной (Ю. Н. Рейтлингер). М.: Фонд имени Александра Меня, 2002.
- Фокин (2012) -Фокин А. Р. Элементы учения об обожении в латинской патристи-ке//Вестник ПСТГУ: Богословие. Философия. 2012. Вып. 6 (44).
- Черемухин (2007а) -Павел (Черемухин), иером. Константинопольский Собор 1157 г.и Николай, епископ Мефонский//Епископ Николай Мефонский и византийское богосло-вие. Сб. исслед./Ред. П. В. Ермилов, А. Р. Фокин. М.: Центр библейско-патрол. исследова-ний; Империум Пресс, 2007.
- Черемухин (2007б) -Павел (Черемухин), иером. Учение о Домостроительстве спасе-ния в византийском богословии (епископ Николай Мефонский, митрополит Николай Ка-васила и Никита Акоминат)//Епископ Николай Мефонский и византийское богословие.Сб. исслед./Ред. П. В. Ермилов, А. Р. Фокин. М.: Центр библейско-патрол. исследований;Империум Пресс, 2007.
- Яковлев (2003)-Яковлев А. И. Святитель Филарет в церковной и общественнойжизни России ХIX века//Святитель Филарет (Дроздов): Избранные труды, письма, воспо-минания. М.: ПСТБИ, 2003