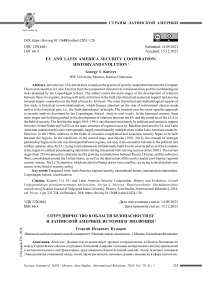Сотрудничество в области безопасности ЕС и Латинской Америки: история и эволюция
Автор: Кутырев Г.И.
Журнал: Вестник ВолГУ. Серия: История. Регионоведение. Международные отношения @hfrir-jvolsu
Рубрика: Страны Латинской Америки: проблемы национальной безопасности и внешнеполитической независимости
Статья в выпуске: 1 т.29, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. Данная статья анализирует процесс сотрудничества в области безопасности между Европейским союзом и странами Латинской Америки c позиции исторического институционализма и методологического инструментария, предложенного Копенгагенской школой. Автор освещает основные этапы развития отношений между этими двумя регионами, начиная с ранних инициатив в сфере политической и экономической поддержки и переходя к более глубокому сотрудничеству в области безопасности.
Европейский союз, латинская америка, региональная безопасность, транснациональные угрозы, международные отношения, копенгагенская школа, секьюритизация
Короткий адрес: https://sciup.org/149145119
IDR: 149145119 | УДК: 329(460) | DOI: 10.15688/jvolsu4.2024.1.20
Текст научной статьи Сотрудничество в области безопасности ЕС и Латинской Америки: история и эволюция
DOI:
Цитирование. Кутырев Г. И. Сотрудничество в области безопасности ЕС и Латинской Америки: история и эволюция // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История. Регионоведе-ние. Международные отношения. – 2024. – Т. 29, № 1. – С. 225–238. – DOI:
Введение. Изучение сотрудничества между Европейским союзом (ЕС) и странами Латино-Карибской Америки (ЛКА) в области безопасности видится весьма актуальной темой по нескольким причинам.
Урегулирование вооруженных конфликтов в ЛКА. Несмотря на то что ЛКА давно позиционирует себя «Зоной Мира» в Колумбии (конфликт с военизированными группировками, преступными синдикатами и левыми партизанами) и Мексике (война с наркокартелями), продолжаются вялотекущие вооруженные конфликты. Еще в шести странах Северной и Южной Америки – Бразилии, Сальвадоре, Гватемале, Гаити, Гондурасе и Венесуэле, согласно данным СИПРИ, зафиксирован высокий уровень вооруженного насилия [19]. Работая вместе, страны ЕС и ЛКА пытаются находить способы урегулирования конфликтов и улучшения своих возможностей по их устранению.
Укрепление политико-экономических связей и демократических ценностей. Сотрудничество между ЕС и странами ЛКА в области безопасности также укрепляет политико-экономические связи между двумя ре- гионами. Это важно для формирования пространства взаимного доверия и понимания. «Для политического и делового истеблишмента подавляющего большинства латиноамериканских государств Европа (прежде всего в лице ЕС, или “Европы Евросоюза”) традиционно была самостоятельной геоэкономичес-кой и геополитической величиной, естественным (органичным) международным торговоэкономическим и политико-дипломатическим партнером, в некоторой степени – стратегической альтернативой США» [17, с. 16].
Общность истории и культуры . «Отношения между ЕС и ЛАК являются по-настоящему “особыми”, прежде всего за счет наличия общих ценностей и давней истории тесного сотрудничества в разных сферах. <...> Латиноамериканские страны рассматривают себя как часть Евро-Атлантического региона, толкуя миссию ЛАК и цели стратегии развития именно в западном ключе» [7, с. 127].
Методы. Цель работы – проанализировать неоднозначные процессы сотрудничества в области безопасности между ЕС и странами ЛКА, используя концепцию исторического неоинституционализма, которая вводит прин- цип «колеи зависимости». Суть данного принципа сводится к тому, что первоначальный выбор, который совершает актор (как структурного, так и нормативного свойства), будет оказывать глубокое воздействие на все последующие политические решения. То есть, создавая «правила игры» (ограничительные рамки), акторы «задают структуру побудительных мотивов человеческого взаимодействия – будь то в политике, социальной сфере, экономике» [11, с. 112], тем самым делая взаимодействие возможным. Такое понимание позволяет рассматривать взаимоотношения стран ЕС и ЛКА в области секторов региональной безопасности в содержательной связи с историческим контекстом. Кроме того, политика безопасности рассматривается нами на двух уровнях: уровень, касающийся вопросов незащищенности (insecurity), которые являются результатами политических действий; уровень, относящийся к разработке и реализации разнообразных политик безопасности (policy) [36]. Это задает логику работе, которая подчинена концептуальному аппарату и секторальному подходу к анализу безопасности, разработанному Копенгагенской школой [24].
Тема сферы безопасности постоянно меняется и эволюционирует. Именно поэтому исследования, посвященные данной теме, имели в разное время различные методологические подходы. Так, начиная с XV–XVI вв. обеспечение безопасности традиционно рассматривалось в категориях войны и мира. Например, в масштабном исследовании П. Парета [30] проблема безопасности анализируется в исторической перспективе, начиная с эпохи Возрождения до современности. В следующих работах, например Г. Паркера [31], фокус безопасности также оставался в военных рамках, хотя эффект Второй мировой имел фундаментальное значение для многих аспектов политики безопасности в частности и международных отношений в целом. Политика безопасности как «неоднозначный символ» рассматривается в послевоенной работе одного из классиков международно-политической науки А. Уолферса [37]. 1990 г. становится еще одной вехой в развитии исследования сферы безопасности, когда формируется концепция секьюритизации [20; 22;
-
23] . В своих работах Б. Бузан и О. Вэвер предложили классифицировать угрозы по пяти секторам (политический, экономический, военный, экологический и социетальный). В последнем секторе, по замечанию О. Вэвера, в центре внимания находится не государство, а общество с его идентичностью [35, p. 581]. Что касается непосредственно темы исследования отношений ЕС и стран ЛКА в сфере безопасности, то они представлены как западной [20; 21; 27], так и российской научными школами [10; 13].
Тем не менее, несмотря на актуальность проблемы, работ, связанных с различными сферами в области безопасности между двумя регионами, явно недостаточно. Среди источников изучены: выступления ведущих политиков ЕС и стран ЛКА, международные программы и договоры, материалы средств массовой информации.
Анализ. По словам Е.Ю. Косевич, «отношения между Европейским союзом и Латинской Америкой и Карибским бассейном на протяжении (многих лет. – Г. К. ) развивались достаточно нестабильно» [7, с. 116]. Условно эволюцию отношений ЕС и ЛКА в сфере безопасности можно разделить на три этапа, которые логично вписать в процесс становления европейской политики безопасности и обороны. Данный процесс подробно описан в монографии «Будущее Большой Европы. Перспективы развития макрорегиона» (гл. 14), и поэтому мы будем ориентироваться на разработанную в ней логику изложения событий [8], а также значимость первоначального институционального выбора (исторический неоинституционализм).
Этапы развития отношений между ЕС и ЛКА выглядят следующим образом: биполярный (1945–1991 гг.), когда страны ЛКА практически не фигурировали в повестке дня Европы; постбиполярный (1991–2014 гг.), когда начали действовать новые правила игры в рамках региональной системы безопасности, а между регионами активно прорабатывается концепция стратегического партнерства не только в экономической, но и в политической и военной сферах; современный этап (2014 г. – наст. вр.) характеризуется нарастанием противоречий между Россией, Украиной и коллективным Западом, консолидированным вокруг
США, а также разрушением созданной постбиполярной региональной системы безопасности, а страны ЛКА, которые опасаются быть втянутыми в конфликт, пытаются выработать собственный курс в сфере политики безопасности.
На первом этапе основы биполярной системы европейской безопасности стали закладываться в условиях вызовов, с которыми столкнулась послевоенная Европа, которая была разрушена экономически и ослаблена политически. Во-первых, обозначился значительный рост территории СССР: произошел процесс инкорпорации в состав СССР Эстонии, Латвии, Литвы, части Финляндии, северо-восточной Германии, восточной Чехословакии. После войны к советскому блоку также присоединяются Болгария, Румыния, Восточная Германия (ГДР), Польша, Венгрия и Чехословакия. Однако, как замечает Н.Е. Быстрова, «до 1955 г. на Востоке не было создано ничего, подобного НАТО» [2, с. 280].
Во-вторых, c августа 1949 г. происходит эскалация угрозы Третьей мировой войны с применением ядерного оружия, которое «воспринималось не как оружие массового поражения с необратимыми экологическими последствиями для человечества и планеты, но как обычное наступательное вооружение повышенной мощности» [15]. В 1945 г. США обрели ядерное оружие, а в 1949 г. СССР успешно испытал свою ядерную бомбу. Данное событие стало началом гонки вооружений («arms race»). В международных отношениях стремительное развитие приобрела концепция дилеммы безопасности («security dilemma», особенно в период холодной войны) и сформировалась специфическая политика «сдерживания».
В-третьих, Германия после разгрома во Второй мировой виделась как потенциальная угроза для стран-победительниц, поэтому по соглашениям она была поделена на четыре зоны: советскую, французскую, британскую и американскую. В 1949 г. произошло перераспределение территории на две части: Федеративную Республику Германия (ФРГ) и Германскую Демократическую Республику (ГДР). В рамках описанного контекста мировых угроз и формирования двух противостоящих блоков стали возникать проблемы с оп- ределением статуса стран, которые пытались проводить собственную национальную политику, балансируя между интересами США и СССР. К таким странам можно отнести, например, франкистскую Испанию, титовскую Югославию, Францию под руководством Шарля де Голля, Китай Мао Цзэдуна, Румынию при Николае Чаушеску и многие другие [8, с. 206].
Одновременно с институционализацией системы отношений США с Западной Европой в области обороны и архитектуры безопасности, в которых силой вовлечения американцев становится ВПК Европы, выросший за годы войны, начинали формироваться периферийные военно-политические блоки. Вместе с НАТО данные союзы должны были сформировать единую институциональную систему, основанную на логике «сдерживания коммунизма» (идеи концепции офрмлены в «Длинной телеграмме» (№ 511) Дж. Кеннана и доктрине Г. Трумана) и некоторых идеях атлантизма. Во многих случаях американцам и европейцам было необходимо лишь формальное согласие их союзников с этими постулатами, поскольку далеко не все союзники Вашингтона были демократиями. Это привело к поддержке авторитарных правительств и военных хунт в некоторых странах (Чили – А. Пиночета, Бразилии – Ж. Варгаса, Парагвая – А. Ма-тиауда). «В период холодной войны США часто закрывали глаза на преступления военных диктатур против собственного населения, рассматривая репрессии как неизбежное зло в борьбе с реальной и мнимой “коммунистической угрозой”» [9, с. 33]. Таким образом, интерес коллективного Запада в послевоенный период в области безопасности в странах ЛКА диктовался логикой «не допустить, чтобы противник представлял во время войны военную угрозу их способности защищать себя или защищать жизненно важные территории мира» [26, p. 137].
В 1947 г. был принят «Межамериканский договор о взаимной помощи», который стал первым договором о региональной обороне между США и странами ЛКА. По мнению ряда исследователей, именно Пакт Рио-де-Жанейро стал прообразом НАТО, образованного в 1949 г.: как впоследствии НАТО, так и «пакт Рио» «объединил капиталистические страны в рамках стратегии США по борьбе с международным коммунизмом» [28, с. 139– 140]. Данный договор послужил основной для противоречий внутри НАТО во время операции Великобритании на Фолклендских островах в 1982 г.: Италия поддерживала Аргентину, а ФРГ и Франция осудили действия Великобритании. США же после долгого колебания также осудили британскую интервенцию на Фолькленды, полагая, что ее поддержка может создать почву для усиления влияния СССР в регионе ЛКА.
Процессы деколонизации, стремительно развернувшиеся в послевоенные годы, не только способствовали кризису имперской идентичности в европейских метрополиях и заложили постимперское самосознание в Европе, но начали формировать совершенно новый взгляд относительно места стран ЛКА в мировой политике. «Понимание третьего мира с 1960-х гг.... претерпело определенные изменения. <...> К третьему миру относятся наименее развитые страны Азии, Африки, Океании и Латинской Америки, которые могут быть объединены в единую группу с присущими им одинаковыми характеристиками – бедность, высокая рождаемость» [16, с. 413]. И данная концепция получила более широкое распространение в научной литературе того периода, чем идеи принадлежности ЛКА к «межамериканскому сообществу», возглавляемому США. Сама идея формирования безопасности в странах ЛКА проводилась в плоскости конкуренции сверхдержав, и, «соответственно, безопасность этих государств и регионов анализировалась в основном через призму блоковых интересов» [16, с. 416–417].
Согласно концепции Копенгагенской школы, мы рассматриваем сферу безопасности как речевой акт (иллокуцию), «в котором элиты, представляя определенные события в качестве угрозы национальной безопасности, легитимируют право на чрезвычайные и решительные меры» [3, с. 39]. В период 1950– 1960-х гг. Европа, в частности Франция и Великобритания, предлагала проекты региональной безопасности, которые имели явную цель – обезопаситься от возможности возрождения германского милитаризма. Так, например, в своей речи-проекте 24 октября 1950 г. перед Национальным собранием французский премьер Рене Плевен отметил, что «формирование немецких дивизий, немецкого министерства обороны рано или поздно должно было бы привести к восстановлению национальной армии и, тем самым, к возрождению немецкого милитаризма. Подобный исход при всех его обстоятельствах будет единогласно осужден нашими союзниками, как и опасен для самой Германии» [34].
Примечательно, что до этого Великобритания, Франция и страны Бенилюкса подписывают Брюссельский договор, в рамках которого было заявлено образование Западноевропейского союза (ЗЕС), который должен был обеспечивать региональную безопасность. Однако после институционализации Североатлантического альянса в 1949 г. и начала войны в Корее (1950–1953 гг.) США получают доказательство правоты своей международной политики «сдерживания коммунизма». В то же время проект европейской военной интеграции в виде Европейского оборонительного сообщества (ЕОС) не удается согласовать между странами-членами. Франция не ратифицирует договор, поскольку, как видно из дискурса безопасности того времени, Германия с ее перевооружением все еще представляла опасность для французского суверенитета.
Наравне с проектами глобальной безопасности свои системы формировались на региональном и субрегиональном уровнях, их центральным элементом среди стран Северной, Южной и Центральной Америки стала Организация американских государств (ОАГ). Данная организация была образована в 1948 г. на межамериканской конференции в Боготе на институциональной основе в виде Панамериканского союза (1910 г.). Идеологически ОАГ была образована на основе теории демократического мира [4, c. 43], однако холодная война свела на нет данные начинания и ОАГ стала очередной площадкой для идеологического противостояния США и СССР. А.А. Еремин объясняет данный факт, исходя из нескольких причин, таких как: агрессивная политика Вашингтона и Москвы; противоречие среди членов ОАГ между принципом демократического устройства и принципом уважения суверенитета; общая слабость молодых, институциональ- но неразвитых демократий ЛКА [4, с. 31]. Тем не менее впоследствии ОАГ стала важным региональным форумом и площадкой для обмена опытом по вопросам безопасности в межамериканском формате.
Тем временем в странах ЛКА благодаря последствиям Второй мировой и вызванным ими глубоким переменам сформировался свой дискурс безопасности, который конструировался в первую очередь вокруг угроз внутреннего характера. Например, если взять политический сектор, тесно связанный с политическим режимом и социальным порядком, то уровень угроз в данном секторе в странах ЛКА тесно связан с угрозами государственному суверенитету. Однако в отличие от ориентации на внешние угрозы, которые были широко распространены в концепции политического реализма западных стран, господствующего в период холодной войны, «большинство угроз в незападных странах исходит не из внешней среды, а изнутри» [16, с. 412].
Здесь стоит сказать об исключительной роли военных, которые начиная с Войны за независимость (1810–1825 гг.) занимали в странах ЛКА роль основных акторов в политической и военной сферах. Согласно Копенгагенской школе, безопасность в военном секторе сосредоточена вокруг военных угроз разного характера: от демонстративной проекции силы к реальному применению вооруженного насилия. Военные в странах ЛКА формировали собственную идеологию, которая по своей пестроте была весьма широка «от крайне левых до ультраправых тенденций, она то пронизана общенациональными, патриотическими мотивами, то направлена на защиту интересов иностранного капитала» [5, с. 8].
Военные в странах ЛКА виделись в качестве «арбитров», которые брали на себя задачи дальнейшего развития страны в условиях слабости субъективного гражданского контроля по С. Хантигтону и внутренних угроз (свержение режима, усилия ослабить или разрушить государство в переделах его суверенных территориально-институциональных границ) в периоды социальной, политической и экономической неустойчивости. Однако проникнутая «милитаристским духом» военная этика коренным образом отличается от гражданской, и потому ее доминирование в поли- тической сфере приводит к формированию военных режимов. Доступ в таких режимах ко всем ключевым властным постам контролирует коллективное руководство в виде военной хунты.
При этом благодаря своему нелегитимному получению власти (переворот в большинстве случаев) военные режимы являются наименее устойчивыми авторитарными режимами. И именно групповое сознание военных и их «милитаристская» этика, ориентированная на управление насилием, подчинение личности коллективу, консерватизм и конформизм, становятся источником нестабильности режима, более всего ценящего целостность армии. Неудивительно, что военные хунты не в состоянии долго удерживать власть. Так, 1950–1960-е гг. «характеризовались кардинальными переменами в жизни большей части названных выше стран. Падение диктаторских режимов в Перу (1956), Колумбии (1957), Венесуэле (1958), на Кубе (1959), в Доминиканской Республике (1961), революции в Гватемале и Боливии, острейшая политическая борьба в Бразилии и Аргентине...» [5, с. 8].
В Европе же продолжал медленно набирать обороты интеграционный процесс, который был многоуровневым и включал как экономическую интеграцию через общие рынки и институты, так и внешнеполитическую интеграцию, где решения по вопросам внешней политики принимались национальными правительствами на межправительственной основе. Эти два направления интеграции сосуществовали и продолжали развиваться после 1991 г., формируя основу для современной европейской интеграции.
Роль стран Латинской Америки в данный период становления евроинтеграции хоть и была относительно невелика, но заслуживает определенного внимания. С 1957 г., когда было учреждено ЕЭС, целью которого являлось создание в рамках «шестерки» таможенного союза, а затем – переход к общему рынку, начался процесс налаживания экономических отношений, который, правда, по словам А.А. Канунникова, носил «спорадический характер и имел для двух сторон второстепенное значение» [6, c. 120]. Данное обстоятельство объяснялось, исходя из следующих при- чин. Во-первых, ЕЭС было только в начале пути своего развития и не обладало всей палитрой экономических инструментов для установления полноценных отношений со странами ЛКА. Во-вторых, две из шести стран-основательниц (Бельгия и Франция) были в первую очередь заинтересованы в сохранении своего экономического влияния с бывшими колониями, поэтому основное внимание уделялось странам Африки. Так, в 1963 г. в г. Яунде (Камерун) была подписана Конвенция об ассоциации (Яундская конвенция) с формированием льготных условий для африканских товаров на рынке ЕЭС сроком на пять лет. В-третьих, страны ЛКА традиционно были сферой национальных интересов со стороны США. К концу XIX в. США, ведомые атлан-тико-тихоокеанским вектором, уже активно политически и экономически проникали в страны ЛКА, а после американо-испанской войны 1898 г. распространяли свое влияние на Филиппины.
Относительно первым шагом на пути ЗЕС к установлению новых отношений со странами ЛКА стал визит президента Франции Ш. де Голля в 1964 г., хотя данный жест не превратился в вызов гегемонии США в регионе, как надеялись голлисты и опасались в то время американцы, однако страны ЛКА в результате данных событий смогли по-новому взглянуть на Европу, открывавшую им новые экономико-политические перспективы.
Отдельно стоит упомянуть про сотрудничество Бразилии и стран ЕЭС (Франции и ФРГ) в области ядерной программы в 1950– 1960-х годах. Стремясь ускорить развитие ядерной энергетики Бразилии, в ноябре 1953 г. президент Жетулиу Варгас (1930–1954 гг.) утвердил план сотрудничества с зарубежными странами для приобретения технологий обогащения урана, строительства атомных электростанций и подготовки ученых-ядерщиков [32]. Ключевой фигурой в попытке развития ядерной программы Бразилии в период холодной войны стал вице-адмирал Альваро Альберто.
Несмотря на сопротивление США, Национальный исследовательский совет Бразилии с подачи Альваро Альберто в том же 1953 г. подписал секретное соглашение с исследовательскими центрами в Бонне и Гет- тингене на получение трех моделей центрифуг от фирмы Sartorius Werke и обучение бразильского персонала работе с этим оборудованием. Еще одним важным пунктом в соглашении значилась георазведка и возможный экспорт бразильского урана в ФРГ. Как замечают многие ученые, у ФРГ – страны, все еще оккупированной союзными войсками, и Бразилии – страны, находящейся на заднем дворе США, были веские причины сотрудничать друг с другом. Другой страной, где Бразилия пыталась выстроить отношения для воплощения своей ядерной программы, была Франция: в 1953 г. Альваро Альберто подписывает договор о сотрудничестве с Франсисом Перреном, верховным комиссаром по вопросам атомной энергии Франции (1951–1970 гг.). Однако международная обстановка радикально изменилась 8 декабря 1953 г., когда президент США Дуайт Эйзенхауэр выступил с речью «Атом для мира» на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. В августе 1954 г. конгресс США одобрил изменения в законодательстве об атомной энергии, которые разрешали сотрудничество с другими странами.
После пяти месяцев переговоров, 3 августа 1955 г., Бразилия и США подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. «В октябре 1956 г. была создана Национальная комиссия по ядерной энергии, которая в 1957 г. начала эксплуатацию первого ядерного реактора, поставленного из США» [32, с. 357]. Данные события положили конец нарастающему сотрудничеству как с ФРГ, так и с Францией. США являлись самой передовой ядер-ной страной в мире и могли бы гарантировать краткосрочные потребности Бразилии в поставках важнейших технологий и материалов для реализации ядерной программы.
В 1970-х гг. на фоне распада Бреттон-Вудской золотовалютной системы и нефтяного кризиса 1973 г. ЕЭС открыло представительство Европейской комиссии в Каракасе в 1975 году. Стабилизация границ и расстановки сил в самой Европе привели к возникновению процесса «разрядки», который начался с выдвижения первых инициатив СССР по созыву Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в 1966 г. в Бухаресте. В этих условиях наметились первые результаты торгово-экономического сотрудничества между странами ЛКА и ЗЕС. По словам В.М. Тай-ар, «на первой волне регионализма в ЛКА (1960–1980 гг.) были подписаны договоры “первого” и “второго” поколений с ЕЭС... тогда же была разработана система общих преференций, а также были подписаны первые двухсторонние договоры (так называемые договоры первого поколения) с Аргентиной, Уругваем, Бразилией и Мексикой» [14, с. 417].
В период холодной войны в регионе ЛКА действовали в основном американские поставщики вооружений и военной техники, в то время как поставки советской военной техники ограничивались своими немногочисленными латиноамериканскими союзниками – Кубой в 1960-х гг. и Никарагуа в 1980-х годах. В этих условиях страны ЗЕС в основном ориентировались на продажу вооружений и техники, рассчитанных на борьбу с военными угрозами внешнего характера.
В конце 1980-х гг. в Европе были разработаны и утверждены основные инструменты для контроля над обычными и ядерными вооружениями. Это дало правовую основу для последующего этапа развития европейской системы безопасности после окончания Второй мировой войны. В число этих документов входили следующие: «Договор о конвенциональных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ, 1990 г.), «Венский документ» (1990 г.), «Договор о ракетах средней и меньшей дальности» (Договор РСМД, 1987 г.) и «Договор между США и СССР о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений» (СНВ-1, 1991 г.) [8].
В этот же период зародилась первая устойчивая площадка по вопросам мира и безопасности между Европой и странами ЛКА – «Диалог Сан-Хосе» (1984 г.). По словам А.А. Канунникова, «это стало первым шагом на пути сближения Европейского сообщества с ЛАК» [6, с. 117]. Согласно принятой годом позднее Люксембургской декларации, ЗЕС, поддерживая Контадорский процесс, обозначил свои цели в стремлении «положить конец насилию и нестабильности в районе, способствовать социальной справедливости, экономическому развитию и уважению человеческого права и демократических свобод» [25]. Согласно последующим документам ЕС, цель была более или менее достигнута в первое десятилетие.
Сообществам удалось внести значительный вклад в мирный процесс в Центральной Америке, когда в августе 1987 г. в гватемальском городе Эскипулас было подписано соглашение «Эскипулас-II», ставшее отправной точкой для прекращения многолетних вооруженных конфликтов и перевода субрегионального политического процесса в процесс демократических переговоров.
Все это ставило на повестку дня вопросы о пересмотре условий политического сотрудничества в Европе, усилении процесса интеграции, формировании новых «правил игры» в сфере евробезопасности. При этом НАТО оставалось главной опорной конструкцией системы европейской безопасности. Что касается ОАГ, то конец холодной войны стал импульсом для запуска процесса адаптации данного основного института обеспечения безопасности в Западном полушарии к реалиям нового миропорядка.
На втором этапе (1991–2014 гг.) развития современной архитектуры безопасности формируется постбиполярная система. В результате дезорганизации биполярного миропорядка и продолжающихся глубоких дисфункций в структуре европейской безопасности возникли кризисы в двух ключевых регионах.
Кризис в персидском заливе (1990– 1991 гг.): произошел, когда Ирак под руководством Саддама Хусейна атаковал Кувейт. Это вызвало реакцию международного сообщества, и в ответ была запущена операция «Буря в пустыне». Кризис продемонстрировал слабую политическую координацию среди стран – членов Европейского сообщества (ЕС) и подчеркнул доминирующее военное превосходство НАТО, особенно Соединенных Штатов Америки.
Дезорганизация Югославии (1991– 1995 гг.): распад Югославии и последующие вооруженные конфликты в регионе, такие как войны в Хорватии и Боснии, подчеркнули как политическую, так и военную неспособность стран – членов ЕС действовать единодушно и эффективно. Кризис также выявил слабость международных усилий по предотвращению конфликта и урегулированию вооруженных столкновений.
В конце июня 1992 г. Совет министров стран – членов ЗЕС составил список «Петер- сбергских задач» (Petersberg tasks), которые стали одновременно ориентирами политики безопасности ЗЕС и ЕС, дополняли цели Альянса, выработанные в «Стратегической концепции» 1991 года. К концу 1993 г. официальным Вашингтоном были созданы две важные стратегические модели взаимодействия со странами Восточной Европы, Россией и СНГ – дифференцированного «партнерства» и глубокой интеграции. В этом же году усилиями ЕС был создан «Еврокорпус» – формирование из 6 тыс. военнослужащих (представителей Франции, Германии, Бельгии и Испании).
Кроме этого, в условиях беспрецедентной волны глобализации человечество в целом и Европа в частности предстали перед такими новыми угрозами, как: международный терроризм, киберугрозы, международная трансграничная преступность, распространение оружия массового уничтожения (ОМУ). Возникли так называемые мягкие угрозы в виде противодействия негативным изменениям климата, нелегальной иммиграции и наркотрафика, где страны ЛКА заняли важное место, с одной стороны, как источник, а с другой – как медиатор данных угроз. В обоих случаях наблюдалась огромная разница между военными возможностями НАТО и более слабыми возможностями стран Европейского сообщества. Эти кризисы подчеркнули необходимость дальнейшей координации и интеграции в сфере европейской безопасности.
В 1997 г. ЕС подписал «Соглашение об экономическом партнерстве, политической координации и сотрудничестве» (вступило в силу в 2000 г.) с первой латиноамериканской страной – Мексикой. Фактор НАФТА, подписанного в 1994 г. США, Канадой и Мексикой, «явился для Европейского союза главным стимулятором для ведения переговоров с Мексикой» [12, с. 73]. Данное соглашение стало типовым между ЕС и многими странами ЛКА. В 2002 г. такое соглашение, регулирующее торгово-экономические отношения, было подписано с Чили, затем, в 2008 г., было подписано соглашение с группой Карибского бассейна, а в 2012 г. – с Колумбией, Перу, Панамой и пятью Центральноамериканскими республиками.
Помимо двусторонних торгово-экономических отношений ЕС сотрудничает с преференциальными торговыми блоками ЛКА,
Андским и Карибским сообществами, ведет переговоры по выстраиванию зоны свободной торговли с Южноамериканским общим рынком (МЕРКОСУР). В 1994 г. между ЕС и МЕРКОСУР было подписано Рамочное соглашение по сотрудничеству.
Надо сказать, что к сотрудничеству стремились не только страны ЕС, которые видели возможность усилить в странах ЛКА свое политическое и экономическое присутствие, но и сами страны ЛКА, следуя развивающейся концепции «постлиберального регионализма», которая предполагала сотрудничество как в сфере торговли, так и в области безопасности, стремилась выстроить двусторонние отношения с Европой.
Что касается роли отдельных стран ЕС в отношениях со странами ЛКА в сфере безопасности, особое место следует выделить Испании, которая «претендовала на роль моста между двумя регионами, ссылаясь на общность исторических традиций, языка и культуры», а также принимала и принимает активное участие в работе саммитов ЕС – Латинская Америка, ЕС – МЕРКОСУР, ЕС – АСН, ЕС – Бразилия. «Наибольшей интенсивности отношения Испании с латиноамериканским регионом достигали во время председательства Испании в Европейском союзе» [1, c. 42].
На современном этапе развития системы безопасности (2014 – наст. вр.) позиция латиноамериканских лидеров в некоторой степени бросает вызов традиционному латиноамериканскому разделению на левые правительства, поддерживающие Россию, и правые правительства, поддерживающие США и так называемый коллективный Запад. Это демонстрирует сложность политических союзов в регионе сегодня и бросает вызов любым представлениям о современном сценарии формирования новой холодной войны. Хотя большинство латиноамериканских правительств проголосовало за резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающие вторжение России в Украину Мексика и Бразилия воздержались от другой резолюции, запрещающей Москве членство в Совете ООН по правам человека. По мнению экспертов из стран ЛКА, такая позиция объясняется тем, что многие администрации стран ЛКА вслед за своими избирателями считают, что НАТО несет точ- но такую же ответственность за конфликт, как и Россия, если не большую [33].
Сами страны ЛКА по вопросу СВО и украинского кризиса не имеют единой позиции, хотя по резолюции ООН ES-11/2 «Гуманитарные последствия агрессии против Украины» от 24 марта 2022 г. большинство стран были солидарны с ЕС, но, например, Куба, Боливия, Никарагуа и Сальвадор воздержались. 25 марта ОАГ приняла резолюцию по Украине, призывающую РФ немедленно вывести все свои вооруженные силы. Из 34 активных членов ОАГ 28 проголосовали за и пять воздержались, включая Бразилию (плюс Боливию, Сальвадор, Гондурас, Сент-Винсент и Гренадины) [29].
Одной из ключевых задач, перед которыми стоят страны ЛКА, является неотложная модернизация их экономических структур, политических учреждений и военных институтов. Это требует проведения обширных реформ, которые имеют системный характер и охватывают различные аспекты общественной жизни: «...как правило, реформы не доводились до конца, очередная смена политической власти влекла за собой отказ от проводимого курса, усиливала резонанс экономической нестабильности, “сбивала” стратегические ориентиры, выбранные бизнесом и государственным истеблишментом» [18, с. 81]. В странах и объединениях ЛКА существуют разные модели внутриотраслевой специализации, которые совершенно по-разному сотрудничают с ЕС. Так, например, МЕРКОСУР сохраняет высокие таможенные барьеры в торговле с ЕС, а в самом объединении проявлены все признаки реализации модели «центр – периферия».
Заключение. Сотрудничество между ЕС и странами ЛКА способствует укреплению политико-экономических связей между регионами. Взаимное доверие и понимание между странами становятся важными факторами для улучшения отношений. Общность истории и культуры также играет значимую роль в развитии сотрудничества между ЕС и странами ЛКА. Существуют общие ценности и давняя история тесного сотрудничества, что способствует формированию специальных отношений между регионами. В условиях первого периода становления региональной безо- пасности ЕС (1945–1991 гг.) США стали активным участником глобальной и европейской политики после Второй мировой войны, их вовлечение стало катализатором для развития атлантических идей и реализации атлантической хартии. На региональных и субрегиональных уровнях также формировались системы безопасности, включая Организацию американских государств в Северной, Южной и Центральной Америке, которая стала площадкой для идеологического противостояния США и СССР. Роль стран ЛКА в евроинтеграции была ограниченной, в частности из-за ограниченных экономических возможностей ЕЭС и интересов США в регионе.
В 1970-х гг. началось торгово-экономическое сотрудничество между странами Латинской Америки и Западноевропейским сообществом, которое стало более активным после распада Бреттон-Вудской золотовалютной системы и нефтяного кризиса 1973 года. В этот период начался процесс разрядки и стабилизации обстановки в Европе, что способствовало сближению ЗЕС и стран ЛКА. НАТО оставалось ключевой структурой в системе европейской безопасности, но с изменением мирового порядка и окончанием холодной войны возникала необходимость пересмотра условий сотрудничества и интеграции в регионе. ОАГ также адаптировалась к новым реалиям и стала играть роль в обеспечении безопасности в Западном полушарии.
Постбиполярная система безопасности начала формироваться в период с 1991 по 2014 год. Этот этап связан с рядом событий, таких как распад социалистического лагеря в Центральной и Восточной Европе, а также развал СССР и домнинирование США. Преобладание идеологии неолиберализма на Европейском континенте, включая тезис Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории», также было характерным признаком постбиполярного этапа. ЕС начал активно развивать торгово-экономические отношения со странами ЛКА. Соглашения о партнерстве и сотрудничестве были подписаны с различными странами ЛКА, и ЕС стремился к углублению взаимодействия в сфере безопасности и политики. Испания начала играть значительную роль в укреплении отношений между ЕС и странами ЛКА, стремясь выступать в роли моста между этими двумя регионами, основываясь на общности языка, культуры и исторических традиций.
В современной системе безопасности начиная с 2014 г. латиноамериканские лидеры занимают разнонаправленные позиции в отношении глобальных конфликтов, что приводит к разделению на левые и правые правительства, поддерживающие разные стороны. Данное «расслоение» бросает вызов традиционным идеям о латиноамериканском разделении на левых и правых. Модернизация экономических структур, политических институтов и военных учреждений остается одной из ключевых задач для стран ЛКА. Эти реформы должны иметь системный характер и охватывать различные аспекты общественной жизни.
Список литературы Сотрудничество в области безопасности ЕС и Латинской Америки: история и эволюция
- Борзова А. Ю., Кузеванов И. С. Роль Испании в развитии диалога между ЕС и странами Латинской Америки в рамках института саммитов ЕС – ЛАК // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2014. № 1. C. 41–57.
- Быстрова Н. Е. Формирование военно-блокового противостояния в Европе (1949–1955 гг.) // Труды института российской истории РАН. М.: Ин-т рос. истории РАН, 2006. С. 276–304.
- Гайдаев О. С. Теория секьюритизации: генезис, эволюция и современное состояние. СПб.: СПГУ, 2022. 513 с.
- Еремин А. А. Роль организации американских государств в обеспечении региональной безопасности в Западном полушарии (2003–2017 гг.): дис. ... канд. полит. наук: 07.00.15 – История международных отношений и внешней политики. М.: РУДН, 2017. 242 с.
- История Латинской Америки: Вторая половина XX века / отв. ред. Е.А. Ларин; Ин-т всеобщ. истории. М.: Наука, 2004. 607 с.
- Канунников А. А. Европейский Союз – Латинская Америка: экономическое, политическое, социальное сотрудничество = European Union – Latin America: economic, political, social cooperation: монография. М.: Ин-т Европы РАН , 2014. 102 с.
- Косевич Е. Ю. ЕС – Латинская Америка: институты сотрудничества и доверие к ним латиноамериканцев // Мировая экономика и международные отношения. 2023. Т. 67, № 2. С. 114–129.
- Кутырев Г. И. Институциональные вызовы для построения системы безопасности в Большой Европе // Будущее Большой Европы. Перспективы развития макрорегиона / под ред. М. В. Ведерникова, А.К. Ивановой. М.: ИЕ РАН; СПб.: Нестор-История, 2020. С. 204–226.
- Манухин А. А. «Новые функции» вооруженных сил в странах Латинской Америки: факты и интерпретации // Исторические исследования. Журнал исторического факультета МГУ им. Ломоносова. 2019. № 19. C. 30–41. URL: http://www.historystudies.msu.ru/ojs2/index.php/ISIS/article/view/214/514
- Мартынов Б. Ф. Безопасность: латиноамериканские подходы. М.: ИЛА РАН, 2000. 322 с.
- Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. М.: Начала, 1997. 180 с.
- Сидоренко Т. В. Европейский союз – Мексика: заключение торгового договора «нового поколения» // Мир новой экономики. 2019. № 13 (3). С. 72–78. DOI: 10.26794/2220-6469-2019-13-4-72-78
- Сударев В. П. Латинская Америка в геополитическом треугольнике США – Китай – Европейский союз. М.: МГИМО, 2019. 298 с.
- Тайар В. М. Латиноамериканский регионализм и торговые соглашения с Евросоюзом: опыт и подходы // Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2021. Т. 29, № 2. С. 413–425.
- Хоменко Д. «Холодная война»: эволюция ракетно-ядерной «гонки вооружений» между США и СССР // РСМД. URL: https://russiancouncil.ru/blogs/dkhomenko/kholodnaya-voyna-evolyutsiyaraketnoyadernoy-gonki-vooruzheniy-mezhdu-/
- Худайкулова А. В. Теории безопасности третьего мира // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2016. Т. 16, № 3. C. 412–425.
- Яковлев П. П. Европа и Латинская Америка: неоднозначное прошлое, проблемное настоящее, неясное будущее // Актуальные проблемы Европы. 2022. № 3. С. 15–43.
- Яковлев П. П. Тренды, меняющие экономику стран Латинской Америки // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2022. Т. 16, № 1. С. 77–101. DOI: 10.23932/2542-0240-2022-15-1-4
- Armed Conflict and Peace Processes in the Americas // Stockholm International Peace Research Institute. URL: https://www.sipri.org/yearbook/2022/03
- Bilotta N., Siara A. Could a Bridge Between the EU and Latin America Boost Innovation “Sovereignty” in a Multipolar World? // Istituto Affari Internazionali (IAI) (2020). URL: https://www.jstor.org/stable/resrep26105
- Braveboy-Wagner J. Interpreting the Third World: Politics, Economics, and Social Issues. N.Y.: Praeger, 1986. 357 p.
- Buzan B. People, States and Fear. An agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era. Colchester: ECPR Press, 2007. 311 p.
- Buzan B., Kelstrup M., Lemaitre P., Tromer E., Wæver O. The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era. London: Pinter Publishers, 1990. 282 p.
- Buzan B., Waever O., Wilde J. Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rienner, 1998. 239 p. 25. Communication from the Commission to the Council on the Renewal of the San Jose Dialogue Between the European Union and Central America. URL: http://aei.pitt.edu/2786/1/2786.pdf
- Desch M. When the Third World Matters: Latin America and United States Grand Strategy. 1st ed. London: The Johns Hopkins University Press, 1993. 232 p.
- Hobbs C., Melguizo A., Muñoz M., Torreblanca J-I. The EU and Latin America Convergences and Divergences // European Union Institute for Security Studies (EUISS). URL: https://www.jstor.org/stable/resrep51812
- Margarita Lopez-Maya. The Change in the Discourse of US-Latin American Relations from the End of the Second World War to the Beginning of the Cold War // Review of International Political Economy. Winter. 1995. Vol. 2, № 1. P. 135–149.
- OAS Resolution Condemns Russia’s Continued War Against Ukraine // Mission to the Organization of American States. URL: https://usoas.usmission.gov/oas-resolution-condemnsrussias-continued-war-against-ukraine/
- Paret P., Craig G. A., Gilbert F. Makers of Modern Strategy from Machiavelli to the Nuclear Age. N.J.: Princeton University Press, 1986. 951 p.
- Parker G. The Military Revolution: Military Innovation and the Rise of the West. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. 292 p.
- Patti С. The Origins of the Brazilian Nuclear Programme, 1951–1955 // Cold War History. 2015. Vol. 15, iss. 3. P. 353–373. DOI: 10.1080/14682745.2014.968557
- Rodriguez R. J. Explaining Latin America’s Contradictory Reactions to the War in Ukraine // The Center for International Security and Cooperation. URL: https://warontherocks.com/2022/04/explaining-latin-americascontradictory-reactions-to-the-war-in-ukraine/
- Statement by René Pleven on the Establishment of a European Army (24 October 1950) // Luxemburg Center for Contemporary and Digital History. URL: https://www.cvce.eu/en/obj/statement_by_rene_pleven_on_the_establishment_of_a_european_army_24_october_1950-en-4a3f4499-daf1-44c1-b313-212b31cad878.html
- Wæver O. The Changing Agenda of Societal Security // Globalization and Environmental Challenges / ed. by P. Brauch. Berlin: Springer Berlin, Heidelberg, 2008. P. 581–594.
- Wirls D. Buildup: The Politics of Defense in the Reagan Era. Ithaca: Cornell University Press, 1992. 247 p.
- Wolfers A. “National Security” as an Ambiguous Symbol // Political Science Quarterly. 1952. Vol. 67, № 4. P. 481–502.