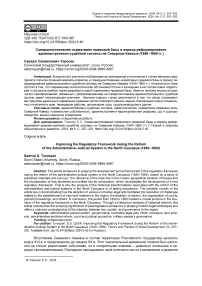Совершенствование нормативно-правовой базы в период реформирования административно-судебной системы на Северном Кавказе (1840-1860 гг.)
Автор: Торосян С.С.
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 5, 2024 года.
Бесплатный доступ
В результате изучения опубликованных материалов и источников в статье автором предпринята попытка проанализировать развитие и совершенствование нормативно-правовой базы в период реформирования административно-судебной системы на Северном Кавказе (1840-1860 гг.). Актуальность темы состоит в том, что современная геополитическая обстановка России и вхождение в ее состав новых территорий и субъектов требует также разработки новой нормативно-правовой базы. Именно поэтому анализ исторических преобразований, связанных с реформированием на Северном Кавказе административной и судебной систем, имеет непреходящее значение. Научная новизна статьи заключается в том, что автор показывает, как принятие различных нормативно-правовых актов позволило решить задачи становления новых поземельных отношений в крае, ликвидации рабства, организации суда, судопроизводства и другие.
Административно-судебная система, наместничество, нормативно-правовые акты, северный кавказ, поземельная собственность, административно-территориальная реформа, суд и судопроизводство, военно-народное управление
Короткий адрес: https://sciup.org/149145862
IDR: 149145862 | УДК: 340.15(470.62/.67)“184/186” | DOI: 10.24158/tipor.2024.5.40
Текст научной статьи Совершенствование нормативно-правовой базы в период реформирования административно-судебной системы на Северном Кавказе (1840-1860 гг.)
Сочинский государственный университет, Сочи, Россия, ,
,
в этом регионе своеобразной системы управления, так и на специфические особенности создания нормативно-правовой базы региона (Агаджанов и др., 1997: 84).
Компетенции и функции практически любой чиновничьей структуры невозможно себе представить без обширной нормативно-правовой базы, которая является основой ее служебной деятельности. Работа, связанная с созданием подобного рода документов – это длительный и непростой процесс, который предполагает не только детальный анализ существующей проблемы и создание новых нормативных актов, но и принятие высшими государственными органами страны подготовленного закона (Сампиев, 1998: 66).
Если обратиться к истории Северного Кавказа, то можно с уверенностью говорить о том, что во второй половине ХIХ в. общей деятельностью по разработке и контролю за выполнением основных нормативно-правовых актов на территории края занимался Кавказский комитет. В компетенцию именно этого органа государственной власти входило рассмотрение дел, функциональная составляющая которых превышала властные полномочия не только наместника, но и министров. Дела эти, в общем порядке, можно разделить на две группы. Первую составляли дела, урегулирование которых происходило законодательно с соизволения Государя Императора. Вторые входили в компетенцию самого Кавказского комитета и, как правило, должны были согласовываться с Комитетом министров или Государственным Советом. Так, в 1860 г. появились следующие юридические акты: «Положение об управлении Дагестанской областью и Зака-тальским округом», «Положение об управлении Терской и Кубанской областями» и другие1.
Наиболее значимые задачи, которые стояли перед наместником на Кавказе и его администрацией, были связаны с решением вопросов поземельной собственности и ликвидацией рабства. Для решения этих вопросов от местной администрации требовалось создание специальной комиссии, которая была образована в мае 1863 г. Однако сама по себе комиссия с возложенными на нее обязанностями справиться не могла, поэтому во многих округах были созданы ее специальные отделы. В их состав вошли представители от местного горского населения, так называемые «депутаты». Общее руководство над ними осуществляли начальники округов, а саму комиссию возглавлял известный кабардинский общественный деятель Д.С. Кодзоков. Работа комиссии получила свое реальное воплощение во многих северокавказских округах, включая Кумыкский, Чеченский, Осетинский и другие, а также во Владикавказе.
Разработка основ нового землепользования вытекала из утверждения о том, что «земля, занимаемая жителями на плоскости, есть казенная». Такая интерпретация решения земельного вопроса говорила о том, что вся земельная собственность, принадлежавшая местному населению, теперь считалась государственной. Вследствие этого комиссии предоставлялось право распоряжаться ею по своему усмотрению (Новиков, 2011: 1180).
Примерно так же и в тот же промежуток времени началась административно-территориальная реформа в Терской области. В 1863 г. было обнародовано положение «Об управлении Терской областью» (Дарчиева, 2014: 71). Почти одновременно, 29 августа 1863 г. вышел в свет нормативно-правовой акт о праве владения общинной землей в Кабарде (Кагиева, 2009: 24).
Принятие нового нормативного документа было вызвано не только удовлетворением местных помещиков – сохранить за собой все существовавшие повинности и остаться главными распорядителями земли, но и стремлением царского правительства навести порядок во вновь присоединенных территориях. Последнее вытекало из того, что существовавшая идея общинного землевладения пользовалась популярностью среди местного горского населения и, следовательно, получала одобрение со стороны крестьянства. Кроме того, одной из особенностей данной реформы было то, что она являлась катализатором в проведении основных положений крестьянской реформы 1861 г., а также способствовала привлечению кабардинской знати к государственной службе, за которую она могла получить земельное вознаграждение.
Попытки центральной власти распространить эту же практику на представителей балкарской и осетинской знати не нашли должного понимания последней. Мало того, депутаты от осетин и балкарцев выступили с заявлением о том, что ради стабильности и спокойствия Тагаур-ского общества необходимо сделать земельную собственность общим достоянием и владеть ею на общинном праве.
Такой подход к решению аграрного вопроса на территории Северного Кавказа полностью разделял и председатель комиссии Д.С. Кодзоков. С ним также был согласен великий князь Михаил Николаевич. Последнее было закреплено соответствующим распоряжением князя: «Всю плоскостную землю Тагаурского общества распределить в надел аульского общества» (Новиков, 2011: 1181–1182).
Проведение в жизнь аграрных преобразований, что называется «по образу и подобию», происходило и в Кубанской области. Правда, реализация поставленных целей и задач началась немного раньше, с претворением в жизнь положения «Об устройстве поземельного быта горских племен Кубанской области» (Тлепцок, 2011: 66). Проводником данного Положения в жизнь стал генерал-адъютант граф Евдокимов.
После назначения в 1862 г. новым наместником Кавказа Великого князя Михаила Николаевича деятельность, связанная с разработкой нормативно-правовой базы, была продолжена. С этой целью был создан особый комитет, который подготовил к 1865 г. пакет документов, получивший название «О преобразовании управления Кавказского и Закавказского края»1. Данный документ был представлен на утверждение императора, который он подписал в конце 1867 г.
Дальнейшим совершенствованием системы административного управления на Северном Кавказе занимался Государственный Совет, деятельность которого была связана с появлением нового положения «Об административно-территориальном устройстве Терской и Кубанской областей». Вновь вводимое Положение обосновывало ликвидацию прежних органов местной власти и переход к новому административно-территориальному делению северокавказских территорий, которые теперь должны были разделяться на округа. Примерно в то же время (в 1868 г.) было принято положение «О сельском управлении в Дагестане»2.
Последовательное вхождение территорий Северного Кавказа потребовало выработки новых нормативно-правовых актов. Однако некоторые из принимаемых административно-территориальных решений, как, например, о передаче Дагестанской области, Закатальского округа и Сухумского отдела в систему гражданских учреждений, не были реализованы немедленно и нашли свое решение только в последней четверти ХIХ в.3
В довольно непростых политических и геополитических условиях шло утверждение Российской империи на Кавказе. В связи с этим, не на последнем месте в проведении административной политики стояли задачи в осуществлении судебной политики и организации судопроизводства в соответствии с российским законодательством. Для этого, прежде всего, необходимо было адаптироваться к горскому судопроизводству и приспособить его к российскому.
Ход и результаты Кавказской войны внесли много нового во взаимоотношения империи с горцами Кавказского края. Одним из существенных результатов этой войны стало то, что петербуржское правительство в своей деятельности по отношению к народам Кавказа все больше и больше прислушивалось не только к обычаям, традициям и нормам обычного права, но и стало считаться со своеобразием общественного устройства края и верованиями местного населения.
Завершение Кавказской войны поставило перед центральной властью новые задачи, в первую очередь, связанные с совершенствованием системы управления на Кавказе. Особую значимость воплощения этой задачи в жизнь осознавали не только наместник и его окружение, но и все российское офицерство, принимавшее участие в Кавказской войне. Новый наместник на Кавказе князь А.И. Барятинский писал об этом так: «Судьба... Кавказа решена окончательно. Полувековая война окончена... Я сделал распоряжение о немедленном устройстве во всех новопоко-ренных обществах нашего управления» (Материалы по истории осетинского народа…, 1942: 32). Однако с введением новой, особенной, в отличие от общероссийской, системы управления необходимо было создать и новое правовое пространство для местных горских народов.
В этой связи необходимо отметить, что еще в начале 1840-х гг. при помощи авторитетных специалистов и чиновников были подготовлены несколько отчетов по опыту управления мусульманами Закавказья, они-то и легли в основу проекта «Об устройстве судебного быта мусульман», подготовленного в годы наместничества князя А.И. Барятинского. Из проекта следовало, что на Кавказе ни в коем случае нельзя было разрушать сельскую общину-джамаат, а также необходимо было всеми возможными способами поддерживать адат. Такое сочетание военного и народного управления должно было способствовать трансформации гражданского сознания горцев и постепенное перерастание народоправства в государственное право. Данную идею последовательно и целенаправленно проводил в общественную жизнь на Кавказе А.И. Барятинский.
Создание новой модели управления на Северном Кавказе предполагало и начало следующего этапа в административно-правовом и судебном реформировании края. Свидетельством этому были и вновь принимаемые нормативно-правовые акты. К последним, прежде всего, нужно отнести: «Особую инструкцию для управления горцами»; «Положение о Кавказской армии», в которой содержалась инструкция «По управлению народами, не вошедшими в состав гражданского управления» (Кануков, 1914: 23).
Таким образом, опираясь на положение и функции наместничества на Кавказе, появилась новая система управления, распространяющаяся, в первую очередь, на горцев Северного Кавказа и основанная на сочетании местных традиций и обычаев, а также российских государственных институтов (Калмыков, 1995: 45). Вместе с тем, обращаясь к определению термина «народный», нужно отметить, что он, скорее всего, подчеркивал некоторые особенности кавказских народов, использующих обычное право горцев (адат) и духовное мусульманское право (шариат), что отличало его от общеимперского законодательства.
Подводя итог введению новой системы управления на Северном Кавказе, можно утверждать, что этот опыт, связанный с народным управлением, несомненно, способствовал решению многих проблем в повседневной жизни кавказских горцев и, безусловно, играл не последнюю роль во всех сферах их жизни. Однако при всем этом царское правительство преследовало и другую цель – усиление своего влияния на Северном Кавказе. Начало становления новой системы управления непосредственно было связано с изменениями, вносимыми в судопроизводство. Так, например, уже в 1952 г. было введено новое управление «мехкеме» на основе адата, который, в свою очередь, не нарушал мусульманских обычаев. В этой связи необходимо отметить, что все те дела, которые касались веры или правил духовного суда, рассматривал кадий, а члены суда, включая председателя, обладали правом совещательного голоса. Если дела были не связаны напрямую с шариатом, то все происходило в обратном порядке. Избрание и назначение членов суда находилось под личным контролем начальника главного Кавказского штаба. Со временем последнему удалось выявить и ряд существенных недоработок, связанных с деятельностью вновь создаваемых судов, главные из которых заключались в неправильном подборе кадров, отсутствии у них нужного образования, а также имели место финансовый интерес, бюрократия, злоупотребления и т. п. На особом контроле стояло назначение председателя мехкеме. Чаще всего это был боевой офицер, имевший большой опыт службы на Кавказе, как, скажем, полковник И.А. Бартоломей, на кандидатуре которого лично настаивал А.И. Барятинский. Он (И.А. Бартоломей) и стал председателем мехкеме в крепости Грозной.
Изменения в работе судов, связанные с созданием новой модели управления, имели позитивные последствия. Как свидетельствуют источники, к этому времени существенно увеличилось количество городов и округов, признающих российскую власть. Так, в 1853 г. жители Владикавказа обратились с просьбой к наместнику об учреждении похожих судов в их регионе (Кондрашева, 1999: 208).
В этой связи необходимо отметить, что новое судопроизводство в Чечне предполагало и сохранение ряда родоплеменных институтов, свойственных многим народам Северного Кавказа, таким, например, как «джамагат» – община и «тохум» – родовой союз. Эти догосударственные институты обеспечивали как сплоченность чеченского общества, так и ответственность граждан, что, безусловно, учитывалось местной администрацией в создании вновь образованных органов управления и, в свою очередь, должно было способствовать приобщению горцев к русскому законодательству. Опыт проведения судебно-административных преобразований в Чечне вскоре был применен и на других территориях Кавказа.
В начале 1860 г. произошли новые изменения в работе окружных судов Северного Кавказа. Они были связаны с появлением «Инструкции окружных начальников». Она, в частности, оговаривала следующее положение: «…во вновь учрежденных судах, состоящих из депутатов народа, возложено председательство в окружном суде на начальника округа, в участках – на начальников оных» (Бушуев, 1956: 162).
Следом, в мае 1862 г., появилось положение «О порядке управления Терской областью» (Бобровников, 2002: 142). Оно исключало из компетенции местных судов рассмотрение особо опасных уголовных дел. В Положении также указывалось, что все принимаемые решения приобретали силу закона лишь после их утверждения начальником области, то есть все происходящее находилось под контролем местной российской администрации.
Появление в 1863 г. в центре Терской области городового суда было связано с необходимостью разделения процесса судопроизводства в столице (Владикавказе) и области. Мало того, теперь суд во Владикавказе рассматривал не только административные и уголовные дела, но и хозяйственные преступления. Вскоре суд получил новое название: сначала – Городское общественное управление, а затем – Терский областной суд. Последнему было подсудно все городское население (Грабовский, 1870: 24). Продолжением этих преобразований в организации и развитии судопроизводства на Кавказе были судебные Уставы 1864 г.
Заключение. Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, что в 1840–1860 гг. происходило дальнейшее совершенствование системы управления на Северном Кавказе, о чем свидетельствует значительное количество принимаемых в это время центральными органами власти нормативно-правовых актов. Столь широкая деятельность была связана, прежде всего, с реализацией главной цели России на Кавказе – интегрированием местного населения не только в административно-территориальное, но и в правовое пространство Российской империи. Как видим, этот процесс протекал небыстро и имел множество особенностей и противоречий.
Список литературы Совершенствование нормативно-правовой базы в период реформирования административно-судебной системы на Северном Кавказе (1840-1860 гг.)
- Бобровиков В.О. Мусульмане Северного Кавказа: Обычай. Право. Насилие: очерки по истории и этнографии права Нагор. Дагестана. М., 2002. 367 с.
- Бушуев С.К. Из истории русско-кабардинских отношений. Нальчик, 1956. 192 с.
- Грабовский Н.Ф. Очерк суда и уголовных преступлений в Кабардинском округе // Сборник сведений о кавказских горцах. 1870. № 4. С. 1–72.
- Дарчиева С.В. Политико-административные преобразования в управлении Терской областью (60-е гг. XIX в. – начало ХХ в.) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики: в 2 ч. 2014. Ч. 1. № 1 (39). С. 70–74.
- Кагиева Т.А. Эволюция частного землевладения в Кабарде в ХIХ веке // Вестник Челябинского государственного университета. Серия 1: История. 2009. Т. 29, № 4 (142). С. 23–29.
- Кануков А.А. Законодательные акты, касающиеся Северного Кавказа и в частности Терской области: cб. законов, указов Правительствующему сенату, положений Ком. министров, правительственных распоряжений, разъяснений Гос. сов. и Правительствующего сената. Владикавказ, 1914. 72 с.
- Кондрашева A.C. К проблеме соотношения обычно-правовых норм и официального законодательства на примере правового развития Кавказа (вторая половина XIX в.) // Обычное право и правовой плюрализм в изменяющихся обществах: материалы XI Международного Конгресса. М.,1999. С. 207–210.
- Материалы по истории осетинского народа. Т. 2. Сборник документов по истории завоевания Осетии русским царизмом / под ред. B.C. Гольцова. Орджоникидзе, 1942. 360 с.
- Национальные окраины Российской империи: становление и развитие системы управления / С.Г. Агаджанов [и др.]. М., 1998. 416 с.
- Новиков Е.В. Развитие нормативно-правовой базы по управлению территориями Северного Кавказа // European Re-searcher. 2011. № 8 (11). С. 1176–1184.
- Сампиев И.М. Система управления Северным Кавказом в Российской империи // Кавказская война: спорные вопросы и новые подходы: тезисы докладов международной научной конференции. Махачкала, 1998. C. 65–66.
- Тлепцок Р.А. Аграрные преобразования 60-х гг. XIX в. на Северо-Западном Кавказе. // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. 2011. № 2. С. 66–75.