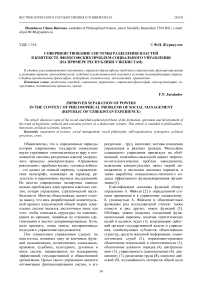Совершенствование системы разделения властей в контексте философских проблем социального управления (на примере Республики Узбекистан)
Автор: Журакулов Фуркат Норйигитович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 8, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые социально-философские проблемы становления, функционирования и развития триады законодательной, судебной и исполнительной властей в условиях демократизации страны. Статья предназначена философам, историкам, политологам, экономистам, правоведам.
Разделение властей, социальное управление, социальная философия, самоорганизация, синергетика, политические процессы, кризис
Короткий адрес: https://sciup.org/148181230
IDR: 148181230 | УДК: 1:316
Текст научной статьи Совершенствование системы разделения властей в контексте философских проблем социального управления (на примере Республики Узбекистан)
Общеизвестно, что в определенные периоды истории современных государств социальные науки утрачивают оптимистическую веру в возможности системы разделения властей упорядочить процессы демократизации. «Оранжевые революции», «арабская весна», «сетевые войны» – это далеко не полный перечень «управленческих катастроф», влияющих на характер, результаты и перспективы научных исследований. Во многих современных экспертных оценках начали преобладать идеи кризиса властных систем, потери управления, стратегической нестабильности. Многие обществоведы делают отсюда вывод, что весь разработанный концептуальный арсенал классической общей теории социальных систем оказался достаточным лишь для того, чтобы описывать структуры, не изменяющиеся во времени, линейные по строению (организации) и жестко детерминированные. Хотя, надо признать, поиск новых, альтернативных подходов к управлению продолжается.
Под социальным управлением следует, на наш взгляд, понимать одну из ключевых функций экономических, политических, социальных, правовых, судебных, культурных, духовных и иных систем, направленных на поддержание эффективной государственной и общественной организации. Целью такого управления является оптимизация функционирования систем, а его ресурсами – труд, интеллект, мотивы поведения управленцев и рядовых граждан. Философия социального управления претендует на обобщенный, понятийно-смысловой анализ теоретико-методологических проблем менеджмента, выяснение концептуальных начал теорий менеджмента и эволюции основных парадигм, а также выработку поведенческо-этического кодекса эффективного функционирования организации [1].
Классификация основных функций общего управления А. Файоля [2] в определенной степени применима и к управлению социальному. К упомянутым А. Файолем и общеизвестным функциям ряд исследователей относят также отнести и ряд других, новых функций [3]. Обобщая, можно выделить следующий функциональный перечень: наличие стратегических целей и целевых задач (1), координацию действий органов государственной власти и управления, хозяйствующих субъектов, общественных структур, средств массовой информации, социологических служб (2), нормативно-правовое обеспечение полномочий и ответственности (3), обеспечение должного порядка (4), централизацию (5), управляемость (единоначалие) (6), дисциплину (7), разделение труда (8), единство действий (9), подчинённость интересов общей цели
(10), материальное и моральное стимулирование (11), строгую иерархию (12), следование принципам социальной справедливости (13), наличие экспертного сообщества (14), инициативу (15), постоянный мониторинг как управленческой, так и непосредственно практической деятельности (16).
При философском анализе проблемы социального управления в контексте разделения властей особое внимание следует уделять категориям объекта и субъекта (объект-субъектному взаимодействию), цели (целеполаганию) и средств, сознательному и бессознательному и пр.
В вышеприведенном смысле объект – это целостное множество элементов в совокупности отношений и связей между ними, то есть в рассматриваемом нами контексте разделение власти рассматривается именно как система. Другая особенность анализа состоит в том, что лица, граждане суть не только объект (ибо любая демократизация не может быть успешной, если хотя не провозглашает целью улучшение жизни людей), но и субъект управления (многочисленные государственные служащие) (причем с собственными потребностями, интересами и ценностными ориентациями). Управление, как справедливо пишет один из исследователей, – это в высшей степени персонифицированный феномен . Личность, персона руководителя, его харизма, имидж, авторитет – не второстепенные, а сущностные характеристики если не самого управления как такового, то процесса функционирования управляемой организации [4, с. 119].
К социально-философскому анализу управления вполне применим принцип субъективности в исследовании (его рождение следует отнести, очевидно, к началу 20-го столетия, когда Ф. Тейлор вводит в научный оборот категорию «человеческий фактор» [5]). Человеческий фактор в разделении властей – это специфическое обозначение функционирования человека в системе разделения властей; все, что относится к человеку как субъекту деятельности в его взаимодействии с ветвями власти; активное участие гражданина в совершенствовании всех сторон государственной и общественной жизни.
В социально-философской литературе существуют различные подходы к управлению, которые отличаются, например, признанием и непризнанием ценности человека как ведущей в системе ценностей управленческой деятельности, рассматриваются базирующиеся на них различные системы мотивации и обсуждаются проблемы удовлетворенности трудом. Ряд авторов обосновывают позицию, что принятие ценности человека руководителем предполагает изучение потребностей работников, которые определяют их трудовую мотивацию, и создание условий для удовлетворения данных потребностей; а также выявление и усиление факторов, влияющих на уровень удовлетворенности трудом персонала, несмотря на наличие противоречия между ценностью человека и ценностью результативности деятельности организации [6].
Известно, что принципиальной особенностью любых креационных систем является существенно более низкий уровень разнообразия по сравнению с модельными. В создании «аналогичных» систем всегда участвует принцип «отсечения лишнего». Применительно к нашему предмету исследования это означает: демократизируемое государство по вполне понятным соображениям упрощает систему разделения властей, чтобы получить возможность регулировать ею. Поэтому в аналогиях порядок и разнообразие зачастую противостоят друг другу. Уменьшение разнообразия посредством информации является одним из основных методов регулирования, потому что поведение системы в таком случае становится более предсказуемым.
Один из показателей действенности и эффективности системы разделения властей – наличие в ней самоорганизации, т.е. процесса упорядочения элементов одного уровня в системе за счёт внутренних факторов, без внешнего специфического воздействия (изменение внешних условий может также быть стимулирующим воздействием); появления единиц следующего качественного уровня [7, с. 109]; способности к самосовершенствованию, то есть к увеличению степени идеальности [8, с.119].
Среди позитивных особенностей самоорганизации в системе разделения властей наличие признаков самовосстановления разрушенных элементов, обеспечение безопасности участников «сети», возможности реализации личности; среди особенностей негативных – риск децентрализации, фрагментация, ограничение объема знаний обо всей системе. В наиболее явной форме самоорганизационная природа социального управления, системы разделения властей проявляется в кризисные, бифуркационные моменты общественных изменений [9, с. 22], в ситуации наибольшей несогласованности организационной и самоорганизационной составляющих [10, с. 48] ветвей власти.
Говоря о кризисе системы разделения властей, можно предложить следующую схему его зарождения, функционирования и разрешения:
-
- докризисное развитие, предполагающее оформление предпосылок кризиса;
-
- преддверие кризиса, с явными симптомами негативного развития событий в государственном и общественном строительстве;
- непосредственно сам кризис, протекающий без изменения базовой модели функционирования системы, т.е. при фактическом усугублении кризиса (а) или разрешении кризиса, влекущем качественное преобразование, а, возможно, и гибель системы и ее утилизацию (б) [11, с. 80].
Как осуществляется переход от хаоса к порядку? Каков внутренний механизм возникновения и трансформации сложных структур? Какова необходимая доля самоорганизации и внешнего управляющего воздействия в обществе? Синергетика как популярное междисциплинарное научное направление впервые поставила эти вопросы и в немалой степени уже дала ответы на них [12, с. 99] [13, с. 62].
Используя синергетические подходы к исследованию социальных явлений, можно утверждать, что и в системе разделения властей функционируют избыточные элементы, относительно независимые от регулирующего влияния, различных форм контроля и обеспечивающие саморазвитие процесса при непредвиденных кризисных изменениях внутренних ресурсных обстоятельств [14, с. 63-68].
Надо сказать, что о необходимости корректировки некоторых подходов к изучению социальных явлений, в том числе и разделения властей, говорили еще в ХХ в. Так, англо-германский социолог, философ, политолог и общественный деятель Р. Дарендорф отмечал, что этот вопрос не мог не возникнуть в силу невиданного ранее расширения полномочий высших органов исполнительной власти, вследствие чего явственно обозначился кризис классической доктрины разделения властей. Равновесие государственноправовых институтов было резко нарушено.
Р. Дарендорф полагал, что одной из причин, по которой «фундаментально-демократическое заблуждение» длится столь долго, является фиксация конституционно-политического мышления на принципе разделения властей. Представительная демократия, как известно, строится на разделении властей – теперь стало ясно, что этого далеко недостаточно (даже если учесть тот факт, что разделение властей по-настоящему осуществлено лишь в немногих национальных конституциях).
Одним из путей выхода из сложившейся ситуации Р. Дарендорф считал привлечение «ак- тивной общественности» и введение функции политического контроля со стороны гражданского общества. «Контроль – это нечто иное, чем законодательная, исполнительная и судебная власти, в отличие от них он сам представляет собой часть политического процесса, – отмечает он. – Слабость конституционного мышления в категориях разделения властей кроется в том, что при этом речь идет о статическом принципе. Разделение властей почти ничего не говорит нам о политических процессах, о том, как они возникают и протекают, предполагая их постоянными (подчеркнуто нами – Ф. Дж.)» [15, с. 230], [16, с. 232] .
Управление, как справедливо пишет один из исследователей, – это, по своей сути, организационно-систематическое сознательное (осознанное, рациональное) воздействие одного или нескольких человек на группы, коллективы, объединения людей с целью достижения намеченного результата их совместной деятельности, который предвидится, планируется, прогнозируется как ближайшее или отдаленное будущее [4, c. 119]. С этой точки зрения можно оценивать и разделение властей.
Управление на уровне социальной формы движения материи исследуется, как известно, не только в рамках социальной философии [17], но и ряда общественно-гуманитарных наук, предметом которых является человек, включенный в систему социальных отношений и деятельности. Социальное управление, изучение системы разделения властей сегодня требуют новых разработок в контексте социологии, антропологии, психологии и других областей, эффективного междисциплинарного исследования.