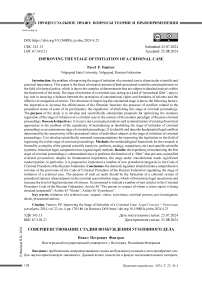Совершенствование стадии возбуждения уголовного дела
Автор: Фантров Павел Петрович
Журнал: Legal Concept @legal-concept
Рубрика: Процессуальное право: вопросы теории и правоприменения
Статья в выпуске: 4 т.23, 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение: проблематика совершенствования стадии возбуждения уголовного дела приобретает особую научно-практическую значимость. Данный аспект находится в фокусе исследовательского интереса, как ученых-процессуалистов, так и практикующих специалистов в области уголовного судопроизводства, что обусловлено комплексом детерминант, подлежащих детальному анализу в рамках настоящего исследования. Стадия возбуждения уголовного дела, выполняя функцию своеобразного «процессуального фильтра», играет ключевую роль в обеспечении баланса между защитой конституционных прав и свобод граждан и эффективным расследованием преступлений. Актуальность совершенствования рассматриваемой стадии обусловлена следующими факторами: императив повышения эффективности фильтрационной функции; наличие коллизий, связанных с процессуальным статусом некоторых ее участников; целесообразность упразднения указанной стадии уголовного судопроизводства. Цель исследования: разработать и научно обосновать предложения по оптимизации нормативно-правового регулирования стадии возбуждения уголовного дела в контексте современной парадигмы российского уголовного судопроизводства. Задачи исследования: 1) осуществить концептуальный анализ и систематизацию существующих теоретических подходов к проблеме целесообразности сохранения или упразднения стадии возбуждения уголовного дела как автономного этапа уголовного процесса; 2) выявить и описать фундаментальные правовые коллизии, детерминированные неопределенностью процессуального статуса отдельных субъектов на стадии возбуждения уголовного дела; 3) разработать научно аргументированные рекомендации по совершенствованию законодательства в сфере регулирования начального этапа уголовного судопроизводства. Методологическую основу исследования образуют комплекс общенаучных (анализ, синтез, аналогия, сравнение и пр.) и частно-научных (системный, историко-правовой, сравнительно-правовой, логико-юридический) методов.
Возбуждение уголовного дела, заподозренный, пострадавший, очевидец, уголовный процесс, доследственная проверка, процессуальные действия
Короткий адрес: https://sciup.org/149147458
IDR: 149147458 | УДК: 343.13 | DOI: 10.15688/lc.jvolsu.2024.4.23
Текст научной статьи Совершенствование стадии возбуждения уголовного дела
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
DOI:
Актуальность модернизации стадии возбуждения уголовного дела в современной парадигме российского уголовно-процессуального права детерминирована наличием существенных лакун в нормативно-правовом регулировании процессуального статуса ряда участников, вовлеченных в данную стадию уголовного судопроизводства. Особого научного дискурса заслуживает процессуальное положение лица, в отношении которого имеются основания полагать о его причастности к совершению преступного деяния. Находясь de facto в состоянии правовой неопределенности, данный субъект лишен возможности эффективной реализации своего конституционного права на защиту, что вступает в антагонизм с фундаментальными принципами справедливого правосудия и верховенства закона. Ана- логичная коллизия наблюдается в отношении лиц, пострадавших от преступных посягательств, которые на этапе процессуальной проверки сообщения о преступлении зачастую оказываются лишенными адекватных механизмов защиты своих прав и законных интересов. Данная ситуация создает предпосылки для формирования негативных тенденций в правоприменительной практике, потенциально ведущих к нарушению баланса интересов участников уголовного судопроизводства. В контексте изложенного, представляется целесообразным проведение комплексного научного исследования, направленного на выявление и систематизацию существующих проблем в нормативно-правовом регулировании стадии возбуждения уголовного дела.
Сложившаяся ситуация требует комплексного пересмотра доктринальных и нормативных подходов к регулированию стадии возбуждения уголовного дела. Необходимо не только элиминировать существующие правовые пробелы, но и сформировать эффективную систему процессуальных гарантий для всех участников доследственной проверки, что позволит привести российское уголовно-процессуальное законодательство в соответствие с современными стандартами защиты прав человека и повысить эффективность уголовного судопроизводства на его начальном этапе. Требуется комплексная ревизия нормативноправовой базы с целью нивелирования существующих правовых лакун, четкой дефиниции процессуального статуса всех участников доследственной проверки и обеспечения эффективной защиты их прав на данном этапе уголовного судопроизводства.
Процессуальное значение стадии возбуждения уголовного дела в современном российском уголовном процессе
Эволюция института возбуждения уголовного дела в российском уголовно-процессуальном законодательстве представляет собой комплексное явление, характеризующееся диалектическим взаимодействием консервативных и инновационных тенденций. Принятие нового УПК РФ ознаменовало не только сохранение, но и существенное укрепление автономности первой стадии уголовного судопроизводства, что нашло отражение в структуре УПК РФ: ей посвящен отдельный раздел, включающий две главы и десять статей.
Первоначальная редакция УПК РФ характеризовалась акцентом на следственных действиях при отсутствии традиционных проверочных мероприятий, то последующие законодательные изменения существенно расширили инструментарий правоохранительных органов на рассматриваемой стадии уголовного судопроизводства [8, с. 121]. Примечательно, что при детальной регламентации процедурных аспектов, процессуальный статус личности, вовлеченной в стадию возбуждения уголовного дела, остался в правовом вакууме, унаследованном от советской правовой системы. Данное обстоятельство создает уникальную коллизию, при которой процессуальные действия получили четкую норматив- ную основу, а их участники остались вне рамок правового регулирования.
Законодательные новеллы 2003–2013 гг. можно охарактеризовать как последовательную трансформацию института возбуждения уголовного дела. Поэтапное расширение круга проверочных действий, включение в их число ряда следственных мероприятий, а также предоставление следователю и дознавателю права давать поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий фактически привело к «...размыванию границы между доследственной проверкой и предварительным расследованием» [9, с. 296].
Особого внимания заслуживают изменения 2013 г., которые можно квалифицировать как качественный скачок в развитии института возбуждения уголовного дела. Законодатель не просто расширил перечень проверочных действий, но фактически создал своеобразную модель предварительного расследования в рамках доследственной проверки. Это породило уникальную ситуацию, когда формально не возбужденное уголовное дело de facto расследуется с использованием широкого спектра следственных и процессуальных действий.
В современной отечественной уголовнопроцессуальной науке наблюдается устойчивая тенденция к переосмыслению роли и места стадии возбуждения уголовного дела в системе досудебного производства. Несмотря на формальное укрепление данного института в действующем УПК РФ, в научном сообществе продолжается активная полемика относительно целесообразности сохранения стадии возбуждения уголовного дела и перспектив дальнейшего ее развития [12, с. 136].
Анализ научной уголовно-процессуальной литературы позволяет выделить две основные концептуальные позиции по рассматриваемой проблематике. Первая группа исследователей, придерживающаяся радикального подхода, аргументирует необходимость полной ликвидации стадии возбуждения уголовного дела. Вторая группа ученых-процессуалистов отстаивает тезис о необходимости сохранении автономности первой стадии уголовного процесса, указывая на ее значимость для обеспечения законности и обоснованности начала уголовного преследования.
Сторонники радикальных преобразований, среди которых следует отметить таких ученых-процессуалистов, как Ю.В. Деришев, Б.Я. Гаврилов и С.И. Гирько, выдвигают тезис о необходимости выведения деятельности, составляющей содержание стадии возбуждения уголовного дела, за пределы уголовнопроцессуального регулирования. В частности, Ю.В. Деришев характеризует данный институт как «реликт социалистической законности», подчеркивая его несоответствие современным реалиям уголовного судопроизводства [6, с. 34].
Б.Я. Гаврилов, развивая данную концепцию, предлагает «...фундаментальную реорганизацию порядка инициации уголовного судопроизводства, предполагающую исключение из УПК РФ норм о возбуждении и отказе в возбуждении уголовного дела» [4, с. 18]. Данный подход представляет собой радикальную трансформацию существующей модели и требует тщательного анализа потенциальных правовых и организационных последствий его имплементации.
Особого внимания заслуживает точка зрения С.И. Гирько, который выдвинул концепцию инициации производства по делу посредством подачи заявления о фактических событиях, содержащих признаки состава преступления [5, с. 16]. Данная идея коррелирует с международной практикой и заслуживает детального изучения в контексте возможности ее адаптации к российским правовым реалиям.
А.И. Макаркин предлагает «...альтернативную интерпретацию процессуальной природы возбуждения уголовного дела, рассматривая его исключительно как формальный акт инициации производства по уголовному делу» [10, с. 76–77], что фактически низводит данный институт до уровня процессуального этапа. Подобный подход потенциально способен оптимизировать уголовный процесс, однако требует тщательной проработки механизмов обеспечения прав и законных интересов участников уголовного процесса.
Заслуживает пристального внимания доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федерации, разработанная коллективом ученых-процессуалистов. Авторы данной концепции предлагают «...заменить стадию возбуж- дения уголовного дела процедурой «Начало досудебного уголовного производства», основанной на регистрации сообщения о преступлении в специализированном Реестре досудебных производств» [2, с. 55]. Данная модель представляет собой попытку синтеза оптимальных элементов отечественной и зарубежной систем уголовного процесса и, безусловно, заслуживает всестороннего научного анализа.
Примечательно, что разработчики законопроекта акцентируют внимание на практических аспектах предлагаемых изменений, указывая на потенциальную оптимизацию деятельности следователей и дознавателей путем устранения дублирования процессуальных действий на различных этапах досудебного производства. Данный подход свидетельствует о стремлении не только к концептуальному совершенствованию модели досудебного производства по уголовным делам, но и к решению ряда проблем правоприменительной практики.
Научная дискуссия о перспективах совершенствования стадии возбуждения уголовного дела выходит за рамки сугубо теоретической полемики, затрагивая фундаментальные вопросы эффективности и справедливости досудебного производства по уголовным делам. Многообразие предлагаемых концептуальных подходов свидетельствует о сложности и многоаспектности рассматриваемой проблематики, а также о необходимости дальнейших научных исследований в направлении разработки оптимальной модели инициации уголовного процесса, учитывающей как исторические традиции российского процессуального права, так и современные тенденции развития уголовного судопроизводства.
Коллизии, связанные с приобретением процессуального статуса отдельных категорий граждан в стадии возбуждения уголовного дела
Проблематика процессуального статуса ряда ключевых субъектов (пострадавший, очевидец, заподозренный), принимающих участие на стадии возбуждения уголовного дела, продолжает оставаться недостаточно урегулированной, что в определенной степени кор- релирует с аналогичной ситуацией, имевшей место в советской правовой системе. Несмотря на внесение в 2013 г. изменений в ст. 144 УПК РФ, законодательно закрепивших комплекс конституционных гарантий для субъектов, вовлеченных в процесс инициирования уголовного преследования, главы 6–8 УПК РФ по-прежнему не содержат исчерпывающего перечня статусных характеристик для указанных участников рассматриваемой стадии уголовного процесса.
В рамках современной парадигмы уголовно-процессуального права особую актуальность приобретает проблема нормативно-правовой регламентации статуса лица, в отношении которого осуществляется проверка сообщения о преступлении (заподозренный). Парадоксальность сложившейся ситуации заключается в том, что заподозренный, de facto являясь центральной фигурой процессуальной проверки, de jure лишен четко регламентированного правового статуса. Данное обстоятельство создает предпосылки для потенциальных нарушений конституционных прав и законных интересов лица, оказавшегося в фокусе внимания правоохранительных органов на начальном этапе уголовного судопроизводства.
Отсутствие надлежащей нормативной базы, определяющей процессуальное положение заподозренного, порождает ряд теоретических и практических проблем, среди которых следует выделить:
– неопределенность объема прав и обязанностей заподозренного;
– отсутствие эффективных механизмов защиты прав и законных интересов данного субъекта.
Следует отметить, что признание законодателем в 2013 г. факта уголовного преследования на стадии возбуждения уголовного дела стало значимым шагом в развитии отечественного уголовно-процессуального права. Однако данное нововведение породило ряд новых вопросов, в частности, касающихся регламентации изобличительной деятельности органов дознания и предварительного следствия на данном стадии [13, с. 192]. В рамках дискурса о модернизации уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации представляется целесообразным рассмотреть вопрос об имплементации институ- та «уведомления о подозрении» в качестве нового процессуального инструмента. Он может создать дополнительные процессуальные гарантии против необоснованной пролонгации доследственной проверки, поскольку факт вручения «уведомления о подозрении» может рассматриваться как основание для установления императивных сроков принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела либо об отказе в таковом. «Уведомление о подозрении» должно подлежать вручению субъекту при инициальном значимом взаимодействии с представителем органов предварительного расследования, осуществляющим проверку сообщения о преступлении. Данный подход потенциально способен разрешить ряд актуальных проблем, связанных с неопределенностью правового статуса лица на стадии возбуждения уголовного дела.
Более того, «уведомление о подозрении» может выступить в качестве эффективного механизма балансировки интересов стороны обвинения и стороны защиты уже на этапе доследственной проверки. Получение такого уведомления предоставит субъекту возможность более осознанно и эффективно реализовывать свое право на защиту, в том числе посредством привлечения защитника на стадии возбуждения уголовного дела. Однако имплементация подобного института требует тщательной научной разработки ряда вопросов. В частности, необходимо определить точные критерии для вручения «уведомления о подозрении», установить его процессуальные последствия, а также разработать механизмы контроля за обоснованностью его применения.
Не менее актуальной является проблема процессуального положения пострадавшего. Парадоксально, но de facto лицо, подавшее заявление о преступлении, оказывается в своеобразном «правовом вакууме» до момента возбуждения уголовного дела. Эта ситуация правовой неопределенности может привести к существенным затруднениям в реализации прав и законных интересов пострадавшего на начальном этапе уголовного судопроизводства.
Критический анализ положений ч. 2 ст. 42 УПК РФ показывает, что право на ознакомление с материалами уголовного дела, являющееся фундаментальным элементом процессу- ального статуса потерпевшего, не находит адекватного отражения применительно к материалам проверки сообщения о преступлении. Изложенный юридический факт создает правовой вакуум, ставящий пострадавшего в уязвимое положение на начальном этапе уголовного процесса. Более того, действующее уголовно-процессуальное законодательство демонстрирует отсутствие эффективного механизма информирования пострадавшего о принятых процессуальных решениях в ситуациях дифференциации субъектов заявителя и пострадавшего. Данное обстоятельство потенциально может привести к фактическому ограничению доступа пострадавшего к правосудию и нарушению принципа своевременности уголовного судопроизводства.
Несмотря на наличие определенных гарантий прав пострадавшего на стадии возбуждения уголовного дела, существующая нормативная база характеризуется рядом существенных недостатков. Данная проблематика приобретает особую актуальность в свете научной дискуссии об упразднении стадии возбуждения уголовного дела, получившей практическое воплощение в ряде постсоветских государств. Однако в российской правовой системе стадия возбуждения уголовного дела сохраняет свою автономность, что обусловливает необходимость совершенствования процессуальных гарантий для лиц, пострадавших от преступных посягательств [1, с. 28].
Анализ доктринальных позиций позволяет выделить две концептуальные парадигмы решения данной проблемы. Первая предполагает экстенсивное расширение нормативного определения статуса потерпевшего, распространяя его на этап доследственной проверки. Вторая парадигма, представляющаяся более обоснованной с точки зрения юридической техники, заключается в конструировании отдельного процессуального статуса для пострадавшего, который бы учитывал специфику его правового положения до формального возбуждения уголовного дела. Тем не менее, несмотря на расширение инструментария органов, осуществляющих проверку сообщений о преступлениях, правовое положение ключевых участников этой стадии, включая пострадавших, остается недостаточно урегулированным. В этой связи представляется целесооб- разным введение в УПК РФ новой статьи 421 «Пострадавший», закрепляющей процессуальный статус данного участника уголовного судопроизводства.
Особого внимания научного сообщества заслуживает вопрос о процессуальном статусе очевидца – субъекта, обладающего «...значимой информацией для установления оснований возбуждения уголовного дела, но не относящегося к категории заподозренных или пострадавших» [3, с. 26]. Этимологический анализ данного концепта указывает на его непосредственную корреляцию с визуальным восприятием события. Однако, в контексте уголовно-процессуальной деятельности подобная интерпретация представляется чрезмерно рестриктивной. Предлагается расширить семантическое поле термина «очевидец», включив в него лиц, воспринимавших событие преступления посредством различных сенсорных модальностей [7, с. 25]. Данный подход позволит более полно учитывать специфику объективной стороны различных составов преступлений и особенности их совершения.
Действующая редакция УПК РФ оперирует термином «очевидец» лишь единожды – как основание для задержания подозреваемого (п. 2 ч. 1 ст. 91 УПК РФ). Подобное ограниченное использование данного термина не отражает реальной значимости очевидцев в системе уголовного судопроизводства. В связи с этим представляется обоснованным введение в УПК РФ отдельной нормы, регламентирующей процессуальный статус очевидца, его права и обязанности на стадии возбуждения уголовного дела [11, с. 326]. Предлагается разработать и внести в УПК РФ новую статью 56 2 «Очевидец».
Отдельного исследования заслуживает проблематика допустимости и пределов использования технических средств фиксации очевидцами события преступления. Необходимо нормативно урегулировать порядок приобщения таких материалов к уголовному делу и определить их процессуальный статус.
Комплексное реформирование института очевидца в уголовном процессе позволит не только повысить эффективность стадии возбуждения уголовного дела, но и создаст дополнительные гарантии объективности и всесторонности расследования преступлений, что в конечном итоге будет способствовать реализации принципа законности в уголовном судопроизводстве.
Выводы
Результаты проведенного многоаспектного исследования позволяют сформулировать ряд фундаментальных теоретических положений и прикладных рекомендаций относительно целесообразности сохранения стадии возбуждения уголовного дела в структуре российского уголовного судопроизводства. Комплексный анализ нормативно-правовой базы и массива доктринальных источников свидетельствует о том, что данная стадия досудебного производства, первоначально концептуализированная, как механизм верификации сведений о предполагаемом преступном деянии, сохраняет свою актуальность и функциональную значимость в качестве автономной процессуальной стадии.
Аргументация в пользу данного подхода базируется на концепции обеспечения прав и свобод личности в уголовном процессе. Стадия возбуждения уголовного дела выступает в качестве процессуального механизма, препятствующего необоснованному применению мер процессуального принуждения на этапе, когда факт совершения преступления еще не верифицирован с достаточной степенью достоверности. Можно сказать, что она выполняет функцию своеобразного «процессуального фильтра», минимизирующего риски неправомерного ограничения конституционных прав граждан.
Вместе с тем, проведенный анализ выявил ряд системных проблем в нормативном регулировании данной стадии, требующих законодательного разрешения. В частности, актуализируется вопрос о необходимости более детальной регламентации процессуального статуса участников доследственной проверки, расширения спектра их прав и процессуальных гарантий.
Следует отметить, что сохранение стадии возбуждения уголовного дела не исключает необходимости ее качественного совершенствования. Перспективы развития данного этапа уголовного судопроизводства во многом детерминированы готовностью законодателя к имплементации системных изменений, учитывающих как накопленный эмпирический материал, так и современные тенденции развития уголовно-процессуальной науки.
Следует отметить, что современное состояние правового регулирования статуса личности в стадии возбуждения уголовного дела не в полной мере соответствует конституционным императивам. Особую озабоченность вызывает отсутствие четкой нормативной регламентации процессуального положения заподозренных лиц, пострадавших и очевидцев. Законодатель, de facto, оставил этих участников уголовного судопроизводства в своеобразном правовом вакууме, не определив исчерпывающим образом их права, обязанности и процессуальные гарантии.
В связи с этим представляется целесообразным внести в УПК РФ ряд новых статей, дополнив главы 6-8 УПК РФ следующими нормами:
– ст. 46 1 «Лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении (заподозренный)»;
– ст. 42 1 «Пострадавший»;
– ст. 56 2 «Очевидец».
Такая нормативная новелла позволит не только устранить существующий пробел в законодательстве, но и создаст необходимую правовую основу для эффективной защиты прав и законных интересов указанных лиц на начальных этапах уголовного судопроизводства.
Список литературы Совершенствование стадии возбуждения уголовного дела
- Азарова, Е. С. Координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью / Е. С. Азарова, В. И. Внуков // Legal Concept = Правовая парадигма. - 2021. - Т. 20, № 2. - С. 26-32. -DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.2021.2.4
- Александров, А. С. Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного права Российской Федерации и комментарии к ней / А. С. Александров, Н. Н. Ковтун, С. А. Грачев, B. В. Терехин, М. В. Лапатников, А. О. Машовец, М. А. Никонов, П. С. Пастухов, И. А. Александрова, И. В. Бандорина, И. Г. Воронин, С. В. Костюнин, C. И. Кувычков, М. В. Лелетова, Э. Ф. Лугинец, И. И. Никитченко, Т. В. Хмельницкая, В. Н. Тангриева. - М.: Юрлитинформ, 2015. - 299 с.
- Булыжкин, А. В. Проблемные вопросы обеспечения прав лиц, вовлекаемых в процесс на стадии возбуждения уголовного дела / А. В. Булыжкин // Научный вестник Орловского юридического института МВД России им. В.В. Лукьянова. - 2019. -№ 1. - С. 24-28.
- Гаврилов, Б. Я. Современное уголовно-процессуальное законодательство и реалии его правоприменения / Б. Я. Гаврилов // Российский следователь. - 2010. - № 15. - С. 17-20.
- Гирько, С. И. О некоторых проблемных вопросах процессуальной регламентации ускоренного досудебного производства / С. И. Гирько // Российский следователь. - 2010. - № 15. - С. 14-16.
- Деришев, Ю. В. Стадия возбуждения уголовного дела - реликт «социалистической законности» / Ю. В. Деришев // Российская юстиция. - 2003.- № 8. - С. 34-36.
- Казначей, И. В. Фантомы уголовного судопроизводства - заявитель и очевидец как участники проверки сообщения о преступлении / И. В. Казначей, С. Д. Назаров // Вестник Уральского юридического института МВД России. - 2018. - № 2. -С. 21-26.
- Косенко, А. М. К вопросу о назначении судебной экспертизы в стадии возбуждения уголовного дела / А. М. Косенко // Алтайский юридический вестник. - 2019. - № 2. - С. 119-124.
- Магомедова, К. Б. Прокурорский надзор на стадии возбуждения уголовного дела / К. Б. Маго-медова, Т. Б. Рамазанов // Евразийский юридический журнал. - 2022. - № 12. - С. 295-297.
- Макаркин, А. И. Состязательность на предварительном следствии / А. И. Макаркин ; науч. ред. В. В. Вандышев. - СПб.: Юрид. центр Пресс, 2004. - 265 с.
- Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. - 4-е изд. - М.: А ТЕМП, 2006. - 938 с.
- Россинский, С. Б. Стадия возбуждения уголовного дела: безоговорочно упразднить либо попытаться понять подлинные причины ее возникновения? / С. Б. Россинский // Актуальные проблемы российского права. - 2021. - № 6. - С. 133-139.
- Соловьева, Н. А. Совершенствование процессуального порядка проверки поводов и оснований для возбуждения уголовного дела / Н. А. Соловьева, П. П. Фантров, В. М. Шинкарук // Legal Concept = Правовая парадигма. - 2021. - Т. 20, № 4. - С. 189194. - DOI: https://doi.org/10.15688/lc.jvolsu.202L4.26