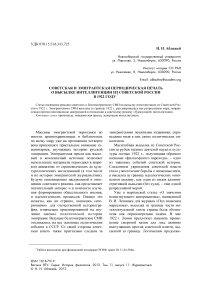Советская и эмигрантская периодическая печать о высылке интеллигенции из советской России в 1922 году
Автор: Аблажей Наталья Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: История журналистики
Статья в выпуске: 11 т.11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена реакции советских и белоэмигрантских СМИ на высылку интеллигенции из Советской России в 1922 г. Эмигрантскими СМИ высылка за границу 1922 г. рассматривалась как репрессивная мера, направленная против оппозиционно настроенной в отношении к советскому режиму «буржуазной» интеллигенции.
Пропаганда, эмигрантская пресса, депортация интеллигенции
Короткий адрес: https://sciup.org/14737688
IDR: 14737688
Текст научной статьи Советская и эмигрантская периодическая печать о высылке интеллигенции из советской России в 1922 году
Массивы эмигрантской периодики во многих архивохранилищах и библиотеках по всему миру уже на протяжении четверти века привлекают пристальное внимание гуманитариев, изучающих историю русской эмиграции. Эмигрантская пресса как массовый и комплексный источник позволяет использовать материалы периодики в широком диапазоне: от страноведческих до культурологических исследований (в том числе и по истории эмигрантской журналистики). Будучи оппозиционно настроенной в отношении советского режима, она представляет значительный интерес и в контексте изучения формирования общественного мнения, и идеологических процессов. Однако эти сюжеты, как ни странно, оказались «вторичными» для отечественной историографии, изначально ориентированной на изучение именно политической истории эмиграции. Ведущие белоэмигрантские СМИ откликались на все основные политические события в СССР. Со своей стороны советская власть также пристально следила за эмигрантскими печатными изданиями, справедливо видя в них своих политических оппонентов.
Масштабная высылка из Советской России за рубеж видных деятелей науки и культуры осенью 1922 г., получившая образное название «философского парохода», – одно из знаковых событий советской истории. Следствием укрепления советской власти стало ужесточение борьбы с инакомыслием, а высылка за границу идеологических оппонентов режиму, как один из видов административной высылки (без суда), – еще одной репрессивной мерой.
Уже в мартовской статье «О значении воинствующего материализма», написанной В. И. Лениным для журнала «Под знаменем марксизма», высылка за границу части интеллектуальной элиты страны была обозначена как первоочередная задача. В мае 1922 г. Ленин предложил заменить применение смертной казни для лиц, активно выступавших против советской власти, высылкой за границу. Логическим продолже- нием этой линии стала передовица в «Правде», в которой интеллигенция характеризовалась «как коллективный контрреволюционный субъект», «мягкая контрреволюция» и «внутренний враг» 1. Необходимость высылки антисоветской интеллигенции обосновывалась и в статье Л. Д. Троцкого «Диктатура, где твой хлыст» 2, автор которой призывал А. Ахматову, Ю. Айхенвальда и «им подобным» «убраться в лагерь содер-жанства, к которому они принадлежат по праву». Именно статья Троцкого открыла целую серию антиинтеллигентских публикаций в советской прессе.
В середине июня 1922 г. в стране начались массовые аресты интеллигенции, поводом для которых стала критика в адрес советской власти, прозвучавшая в ходе работы всероссийских съездов ученых (агрономического, геологического кооперативного и др.), забастовок профессорско-преподавательского состава и студентов ведущих вузов страны, а также материалы нескольких изданий. В результате репрессий летом 1922 г. в Москве, Петрограде, на Украине и в Грузии было арестовано более 230 чел., треть которых подлежала высылке за границу, а остальные – во внутренние отдаленные районы страны. Высылка за границу прошла пятью партиями, две из которых (23 сентября и 16 ноября) стали самыми массовыми.
Советская пресса откликнулась на эти события всего двумя информационными сюжетами, вышедшими в конце августа 1922 г. В «Известиях» было опубликовано интервью Троцкого американской журналистке, жене Джона Рида, Луизе Брайант, представлявшей главное новостное агентство США – «International News Service» (INS). Троцкий попытался представить высылку как акт «гуманизма по-большевистски», призвав журналистку «реабилитировать советскую власть перед мировым общественным мнением», отметив при этом, что, хотя высылаемые «политически ничтожны», они – «потенциальное орудие в руках наших возможных врагов» и «военно-политическая агентура врага» 3. Фрагменты из интервью
Троцкого перепечатали крупные советские региональные издания.
30 августа 1922 г. в «Петроградской правде» была опубликована информация о решении Петросовета арестовать за антисоветскую деятельность и выслать за границу группу интеллигенции 4. 31 августа 1922 г. в сообщении «Правды» указывалось: «наиболее активные контрреволюционные элементы из среды профессуры, врачей, агрономов, литераторов высылаются частью в Северные губернии России, частью за границу <…> Среди высылаемых почти нет крупных научных имен». Далее следовало идеологическое разъяснение: «Высылка активных контрреволюционных элементов и буржуазной интеллигенции является первым предупреждением Советской власти по отношению к этим слоям. Советская власть по-прежнему будет высоко ценить и всячески поддерживать тех представителей старой интеллигенции, которые будут лояльно работать с Советской властью, как работает сейчас лучшая часть специалистов. Но она по-прежнему в корне будет пресекать всякую попытку использовать советские возможности для открытой или тайной борьбы с рабоче-крестьянской властью за реставрацию буржуазно-помещичьего режима» 5. Автор статьи выражал уверенность в том, что принятые советской властью меры предосторожности будут, несомненно, с горячим сочувствием встречены русскими рабочими и крестьянами, которые с нетерпением ждут, когда, наконец, эти «идеологические врангелевцы и колчаковцы» будут выброшены с территории РСФСР.
Западная и русская эмигрантская пресса довольно много писала об арестах и последовавшей за ними высылке интеллигенции за границу. Среди эмигрантских изданий наибольшее количество материалов об экстрадиции интеллигенции удалось выявить в рижской газете «Сегодня», берлинских «Руле» и «Днях», парижской газете «Последние новости». Активно комментировали высылку и смежные с ней события также русские эмигрантские журналы: пражские «Воля России» и «Социалистический вестник». Наибольшая публикационная активность зафиксирована в период с сентября по но- ябрь 1922 г., что было связано с прибытием в Берлин московской и петроградской групп высланных. Интерес латышских и немецких изданий был вызван тем обстоятельством, что экстрадиция многих шла через Латвию, а всех высланных первоначально приняла Германия. Все материалы в эмигрантских СМИ несут ярко выраженные негативные оценки данного события, нейтрально о высылке отзывается только сменовеховская «Накануне». Пресса транслировала информацию с расчетом на эмигрантскую аудиторию, акцентируя внимание на политическом характере событий. Материалы белоэмигрантской прессы о высылке основывались преимущественно на перепечатках из советских центральных изданий; заметки о высылке написали рижские корреспонденты «Латышского телеграфного агентства», газеты «Сегодня», «Руля» и «Последних новостей». Впоследствии основным источником информации становились сами высланные, интервью с которыми поместил ряд эмигрантских изданий. Эмигрантскую общественность, безусловно, интересовало, какие силы стоят за высылкой и какие политические круги доминируют в большевистской партии. Большинство склонялось к тому, что в «отсутствие Ленина влияние перейдет к левому течению партии».
Высылку 1922 г. следует рассматривать в контексте острейшей идейной борьбы вокруг введения нэпа. Экономические свободы не отменяли тотальный идеологический контроль над общественно-политической и духовной жизнью страны. Как образно отмечали «Последние новости», налицо сочетание «тактики уступок» и «тактики репрессий», причем последняя применяется наряду с «тактикой идейного расслоения своих противников». Большинство высланных считало, что инициатором высылки был Троцкий. Но помимо Троцкого, фрагмент из интервью с которым напечатали «Последние новости» 6, эмигрантская пресса идеологом высылки называла также руководителя Коминтерна и председателя Петроградского совета Г. Зиновьева, который вслед за «гуманистом» Троцким характеризовал высылку как «гуманную меру», заявляя: «…мы знаем, что делаем», не исключая, что «…найдутся люди на Западе,
6 Заявление Троцкого // Последние новости. 1922.
5 сент.
которые заступятся за обиженных интеллигентов. Возможно, что Максим Горький снова начнет нас поучать, что России нужна интеллигенция» 7.
Еще в августе крупнейшая эмигрантская газета «Последние новости» поместила на своих страницах три больших передовицы с лаконичными названиями «Советская легальность», «Новый террор» и «Преследования интеллигенции», где характеризовала ситуацию в России как «новую полосу террора», когда «вся русская интеллигенция чувствует себя под ударом и с часу на час ожидает ареста». Издание делало акцент не только на факте массовых арестов среди интеллигенции в столицах, но и на внесудебном характере высылок, прозорливо предполагая, что «высылка за границу большими группами, по-видимому, есть одно из средств, употребляемых большевиками, чтобы отделаться от тех, на кого не поднимается рука и кого нельзя притянуть ни к какому процессу» 8. Следует, впрочем, вспомнить, что именно летом 1922 г. разворачивалась драма вокруг политического процесса над эсерами, хотя широкомасштабная борьба с «буржуазной интеллигенцией» в Советской России действительно началась еще в 1921 г.
Левые эмигрантские издания, летом 1922 г. активно комментировавшие ход судебного процесса над эсерами, первыми откликнулись на высылку двух видных сотрудников Всероссийского комитета помощи голодающим (Помгола) Кусковой и Прокоповича, которые первоначально были приговорены к смертной казни, но благодаря заступничеству Ф. Нансена и президента США Э. Гувера высшую меру наказания им заменили на высылку во внутренние районы страны, а позже, в июне 1922 г., выслали за границу. Большинство исследователей считает, что именно репрессии против членов «Помгола» (август 1921 г.) стали началом репрессий против интеллигенции.
Но если до этого речь шла о единичных фактах, то летом-осенью 1922 г. налицо была спланированная масштабная операция. В первой половине сентября эмигрантские газеты пытались восстановить хронологию нескольких дней второй половины августа, совершенно справедливо указывая на пик арестов, который пришелся на ночные часы с 16 по 18 августа. Тогда было арестовано более 100 известных представителей русской культуры и науки 9, составлены списки («московский» и «петроградский»), согласно которым и осуществлялась высылка. В середине сентября стало известно еще и о так называемом украинском списке. 27 сентября рижские издания, комментируя прибытие в Ригу первой группы высланных, среди которых были Н. А. Бердяев, П. А. Сорокин, Ф. А. Степун, А. В. Пешехонов и др., сообщили, что основная группа из «московского списка» ожидается в ближайшее время пароходом (приводили и его название – «Обербургомистр Хакен») из Петрограда.
Конечно, для западного читателя, как, впрочем, и для советского, механизм принятия решений оставался за кадром. Еще в мае 1922 г. Ленин написал председателю ГПУ Ф. Э. Дзержинскому записку о необходимости готовить высылку «писателей и профессоров, помогающих контрреволюции». 16 июля 1922 г. Ленин в письме в ЦК предлагает арестовать и выслать без объяснения причин «несколько сот» представителей интеллигенции. Непосредственная подготовка высылки началась 20 июля, органы ГПУ составили три списка: «московский», «петроградский» и «украинский». 9–10 августа списки были утверждены Политбюро и ровно через неделю ГПУ провело массовую операцию по «изъятию» инакомыслящих. 10 августа 1922 г. ВЦИК принял Декрет «Об административной высылке», согласно которому допускалась в административном порядке, т. е. без суда, «высылка за границу или в определенные местности РСФСР».
В первых числах октября, сразу по прибытии первых высланных в Берлин, в «Руле» вышло интервью известного писателя и историка, бывшего редактора «Русского богатства» В. А. Мякотина, который подробно рассказал журналисту С. И. Левину, специализирующемуся на интервью с крупными деятелями эмиграции, о массовых репрессиях в Советской России против представителей науки и культуры осенью 1922 г. Именно из этого интервью зарубежная аудитория узнала о 134 депортированных из страны 10. Мякотин проинформировал, что сам был допрошен по семи вопросам, после чего ему было предъявлено обвинение с формулировкой «не примирился с советской властью» и на этом основании объявлено решение о высылке его из страны. Его свидетельства полностью соответствовали реальности: действительно, со всех арестованных взяли письменные ответы на заранее подготовленные стандартные вопросы об отношении к советской власти, проводимой большевиками политике, ситуации в вузах и роли эмиграции [Очистим Россию…, 2008. С. 10]. Спустя три дня «Руль» в передовице, комментировавшей высылку интеллигенции, охарактеризовал ее, во-первых, как «гримасу истории» на фоне призывов к возвращению на родину, во-вторых, как внесудебный произвол и наказание за инакомыслие, за отказ «служить советской власти» 11, поскольку высылаемым людям, в массе своей далеким от политики, инкриминировалось неприятие советских идеалов и несогласие с навязываемой стране идеологией.
В этом же номере был дан комментарий доклада «О положении в Советской России», сделанного в Берлине на общем собрании Союза русских журналистов и литераторов (на нем председательствовал В. И. Немирович-Данченко) высланным из Советской России социологом П. А. Сорокиным. Он характеризовал демографическую и экономическую ситуацию в стране как катастрофическую, особо отметив кризис высшей школы и гонения на церковь 12. Весьма критичным было выступление в «Руле» и бывшего министра Временного правительства и редактора «Русского Богатства» А. В. Пе-шехонова, который охарактеризовал советскую власть как «коммунистическую диктатуру». По его мнению, «власть советов» не больше чем «декорация» 13, так как вся власть в стране сосредоточена не в представительских и государственных учреждениях, а в партии; решения в стране принимаются узкой группой лиц из Политбюро. В условиях, когда в стране нет общественно-политической жизни, «на долю русской интеллигенции, которая находится теперь за границей», выпадает задача «…наметить пути дальнейшей общественной борьбы».
Доклад Сорокина, интервью Мякотина и Пешехонова привлекли особое внимание информационного отдела ГПУ, которое перепечатало их в специальных обзорах эмигрантской прессы [Очистим Россию…, 2008. С. 365, 368, 372].
В канун прибытия в Германию второй партии высланных берлинские «Дни» поместили большую статью, целиком посвященную собранию с участием русских ученых, организованному по инициативе немецкого Красного Креста и «Общества изучения Восточной Европы» (DGSO). В приветственных речах профессоров В. И. Ясинского, С. Д. Франка и А. А. Ильина было отмечено, что «…высланные не считают возможным скрывать своего тяжелого душевного состояния в связи с высылкой… за пределы горячо любимой родины», что никто из них «не искал возможности добровольного выезда за границу», ими движет «здоровый патриотизм», они готовы и дальше работать на благо России. Крупнейший специалист по России, политический деятель и историк Отто Гетч (Хетч), приветствуя представителей русской профессуры и литературы от лица немецких ученых, подчеркнул, что их работа крайне интересна и важна для немецкого ученого мира, а интерес к России в «немецком обществе очень велик» 14.
Прибытие петроградской группы высланных в Берлин в середине ноября стало для эмиграции новым информационным поводом вернуться к теме высылки. Прибывший в немецкий порт Штеттин 14 ноября 1922 г. пароход «Пруссия» был встречен представителями германского Красного Креста, а 19 ноября вокзал «обрусевшего» Берлина во время встречи с высланными был просто переполнен. В составе этой группы прибыло 17 профессоров и литераторов, среди них философы Н. О. Лосский и И. И. Лапшин, историк Л. П. Карсавин, юрист А. А. Боголепов, экономист Б. Д. Бруц-кус и др. После прибытия питерской группы в «Руле» появилась статья с символическим названием «Щедрый дар», суммировавшая оценку эмиграцией высылки за границу видных представителей российской интеллигенции: «…эта высылка представляет щедрый незаменимый подарок эмиграции», призванный «послужить связующим звеном между эмиграцией и родиной» 15. Констатировалась, что высылка подрывает «престиж» советской власти, поскольку она «нашла такой широкий отголосок не только в России, но в Европе».
В очередной раз попытку объяснить позицию советской стороны предприняла сменовеховская газета «Накануне», опубликовав статью Б. Дюшена. Акцентируя внимание на том, что и в послереволюционной эмиграции «десятки людей, среди которых немалое число обладает крупными именами в искусстве, литературе, науке и философии, подвергнуты остракизму и выброшены бурными валами российской революции в среду почти двухмиллионной эмиграции, сложившейся самоходом, самоуходом и бегством», автор делает вывод, что эмигранты 1922 г. «не хотели покидать отечество, вынужденные к тому суровой рукой государственной власти» 16. Газета задается вопросом: «Почему же советская власть была вынуждена заметную часть старой русской интеллигенции отправить за границу?» Поиск возможного ответа труден не только для эмиграции, но и для многих в Советской России. С одной стороны, опасно «выпустить за границу целую армию талантливых агитаторов, настроенных отрицательно к советам и революции, дать им возможность организоваться и организовать “общественное мнение”». Но резон все же есть, и в ближайшее время практика его обозначит, когда закончится «танц-парад» эмиграции вокруг высылки, а психологический и материальный груз изгнания окажется очень тяжелым, так как «изгнание – кара тяжелая»; «новые» эмигранты в полной мере оценят груз «гонения», несмотря на то, что многим из них «заманчиво было пожить в свободных европах». Соглашаясь с тем, что крайне мало публичности и информации о причинах высылки, «Накануне» справедливо замечала: суть акции большевиков в том, что «некоторые интеллигентские круги не хотели и не смогли принять Октябрьскую революцию со всеми из нее вытекающими социальными последствиями». Да, суда не было, но «выступления и деятельность представителей изгнанничества является прокурорской речью против них самих. Они являют- ся лучшим доказательством принципиальной правильности мероприятий, предпринятых советской властью против них, хотя бы и на основании «предчувствий». Сразу же после выхода этой статьи, затронувшей в том числе и финансовую сторону экспроприации, целиком легшую на плечи советской республики, члены группы высланных приняли коллективное решение не отвечать на эти выпады и не вступать в дискуссию с «Накануне». Разъяснения по финансовому вопросу, с целью предупреждения дальнейших «бестактных выходок по адресу высланных», все же дала газета «Дни», констатировав, что «никаких «прогонных» и «подъемных» никому советская власть не выдавала, оплатив высланным (без учета членов семей) стоимость билетов 17.
Вплоть до августа 1923 г. эмигрантская пресса постоянно возвращалась к теме высылки, стараясь упомянуть о каждом таком случае. Наиболее подробные комментарии вызвали приезды в сентябре и декабре группы высланных интеллигентов из Грузии, в январе 1923 г. – из Украины. Значительный резонанс получила высылка из Петербурга арестованного еще в августе редактора журнала «Экономист» Д. А. Лотухина, а также философа и богослова С. Н. Булгакова.
Эмигрантские издания также пытались дать оценку и оценить масштабы высылок политических заключенных во внутренние районы страны 18. Эмигрантская пресса подробно освещала и культурные инициативы, которые были реализованы высланными, в первую очередь создание в Берлине по инициативе Н. А. Бердяева, И. А. Ильина, С. Л. Франка и других «Религиозно-философской академии», «Русского научного института», преподавателями которого стали 20 высланных ученых, и других организаций.
Эмигрантская периодика оперативно отреагировала на высылку интеллигенции, которая, однако, в среде эмиграции вызвала двоякую реакцию. Как справедливо отмечено В. Костиковым, с одной стороны, это был восторг, ибо эмиграцию подкрепили своим авторитетом ученые с мировым именем; кроме того, подтверждался тезис об иррационализме большевиков, способство- вавший дискредитации советской власти. С другой стороны, крайнее удивление, ибо изгнание большой группы ученых никак не согласовывалось с политикой нэпа и контрастировало с ощутимыми послаблениями в контроле над идеологической жизнью страны в сравнении с периодом «военного коммунизма» [1990. С. 16]. По мнению М. Е. Главацкого, «экспатриация инакомыслящей интеллигенции в 1922 г. явилась логичным шагом в развитии внутренней политики страны. Ее главной причиной можно назвать попытку власти установить жесткий идеологический контроль, удалив из страны интеллектуальную элиту – тех людей, которые могли мыслить свободно, самостоятельно анализировать обстановку и высказывать свои идеи, а зачастую и критиковать существующий режим [2002. С. 24–25]. А. В. Квакин акцентирует внимание на том, что высылка стала возможной в силу того, что в обществе сформировался образ «старой» интеллигенция «как врага» [2002. С. 67]. Глубинный смысл высылки состоял не столько в наказании несогласных, сколько в том, чтобы запугать интеллигенцию, именно это и было отмечено историком-диссидентом и эмигрантом «третьей волны» М. Геллером в статье под названием «Первое предостережение – удар хлыстом» [1978].
Первые оценки такого резонансного события, как высылка группы интеллигенции из Советской России, сделанные в эмигрантской прессе, ярко доказывают тот тезис, что вполне современный вопрос о том, почему не состоялся «диалог» российских интеллектуалов и российской власти и возможен ли он вообще, был поставлен еще в начале 1920-х гг.
SOVIET AND EMIGRANT PERIODICALS ON DEPORTATION OF INTELLIGENTSIA FROM SOVIET RUSSIA IN 1922