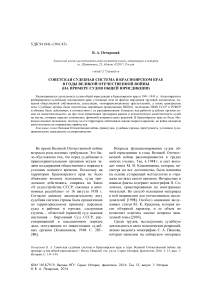Советская судебная система в Красноярском крае в годы Великой Отечественной войны (на примере судов общей юрисдикции)
Автор: Печерский Владимир Арнольдович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 1 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается деятельность судов общей юрисдикции в Красноярском крае в 1941-1945 гг. Анализируются разбиравшиеся судебными инстанциями края, уголовные дела по фактам нарушения трудовой дисциплины, хищения общественной собственности, спекуляции, «контрреволюционные преступления», а также гражданские дела. Судебные органы были подотчетны партийным организациям ВКП(б), подчинены НКЮ СССР и РСФСР и обязаны были действовать в соответствии с их распоряжениями. Контроль над работой судебных органов лишал их самостоятельности, но при этом ограничивал чрезмерное рвение и недостаточную компетентность судей на местах, которые нередко становились причиной неправосудных решений. В Красноярском крае не было объявлено военное положение, поэтому на его территории действовали законы мирного времени, но война наложила свой отпечаток на отправление правосудия.
Великая отечественная война, правосудие, судебные органы, преступность, уголовное судопроизводство, гражданское судопроизводство
Короткий адрес: https://sciup.org/147219476
IDR: 147219476 | УДК: 94
Текст научной статьи Советская судебная система в Красноярском крае в годы Великой Отечественной войны (на примере судов общей юрисдикции)
Во время Великой Отечественной войны возросла роль военных трибуналов. Это было обусловлено тем, что перед судебными и правоохранительными органами встали задачи поддержания общественного порядка в условиях военного времени. Поскольку на территории Красноярского края не было объявлено военное положение, суды продолжали действовать, опираясь на Закон «О судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» от 16 августа 1938 г. Согласно данному законодательному акту судебная система страны была организована по территориальному признаку: народные суды в районах и городах; следующая ступень – областной (краевой) суд; высшая инстанция – Верховный Суд СССР, рассматривавший в кассационном порядке дела, поступавшие из нижестоящих судебных органов [Кожевников, 1948. С. 285– 286].
Вопросы функционирования судов общей юрисдикции в годы Великой Отечественной войны рассматриваются в трудах многих ученых. Так, в 1948 г. в свет выходит книга М. В. Кожевникова, которая, несмотря на все достоинства, была написана на основе устаревшей методологии и отражала взгляды своего времени. Интересные и важные факты содержит монография П. Соломона, ориентированная на иностранных читателей. Но способ изложения материала в ней непривычен для отечественных исследователей [1998]. Особого внимания заслуживает статья Ю. К. Краснова, которая носит обзорный характер, и ее объем не позволяет осветить многие вопросы заявленной темы [2010].
Среди трудов, исследующих судебную деятельность в свете политических репрессий, можно выделить монографию С. А. Папкова, которая написана на сибирском материале
Печерский В. А. Советская судебная система в Красноярском крае в годы Великой Отечественной войны (на примере судов общей юрисдикции) // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2016. Т. 15, вып. 1: История. С. 134–144.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2016. Том 15, выпуск 1: История
[2012]. Все работы, рассматривающие политические репрессии, затрагивают лишь вопросы политической юстиции, оставляя в стороне все многообразие правовых отношений.
Целью работы является изучение судебной системы СССР в период Великой Отечественной войны на примере одного из регионов РСФСР, находившегося в глубоком тылу. Для достижения цели мы предполагаем решить ряд задач: во-первых, проанализировать деятельность народных судов края; во-вторых, исследовать особенности работы Красноярского краевого суда; в-третьих, изучить кадровый состав судебных инстанций края.
Особенностью судопроизводства в 1930– 1950-е гг. было то, что помимо Уголовного кодекса РСФСР, принятого в 1926 г., источниками права являлись другие нормативные правовые акты. Так, 7 августа 1932 г. было принято Постановление ЦИК и СНК СССР «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации и укрепления общественной (социалистической) собственности», вводившее для расхитителей государственной и приравненной к ней собственности в качестве меры наказания смертную казнь с конфискацией имущества. При наличии смягчающих обстоятельств смертная казнь могла быть заменена десятью годами лишения свободы.
Данное постановление было принято с целью защиты, прежде всего, колхозной собственности. Труд членов колхозов оплачивался скудно, уход из коллективного хозяйства был затруднен отсутствием у колхозников паспортов. В колхозах часто происходили кражи, которые правоохранительным органам зачастую не удавалось пресечь. Масштаб воровства заставил руководство СССР пойти на решительные меры.
Двадцать седьмого июня 1940 г. вступил в силу подписанный накануне Указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». С этого момента покинувшие место работы без согласования с руководством могли быть приговорены к тюремному заключению на срок от 2 до 4 месяцев, а прогулы карались исправительно-трудовыми работами с удержанием части заработка.
Этот указ был призван способствовать переходу экономики Советского Союза на военные рельсы. Одним из необходимых условий такого перехода стало укрепление трудовой дисциплины, нарушение которой стало уголовно наказуемым деянием.
Наибольшее количество уголовных дел рассматривалось народными судами. Всего за первые шесть месяцев 1941 г. в низшие судебные инстанции края поступило 24 837 уголовных дел, по которым было осуждено 21 133 чел. Во втором полугодии в народные суды поступило 19 288 дел, в результате рассмотрения которых были осуждены 16 299 чел. 1 В табл. 1 наглядно показано, что количество некоторых видов преступлений снизилось во второй половине 1941 г.
Краевое управление НКЮ, при анализе данных таблицы, пришло к выводу, что снижение числа осужденных за хулиганство и мелкие хищения с предприятий и учреждений является результатом повышения революционной дисциплины и бдительности рабочих предприятий, а также проведения судебными правоохранительными органами жесткой карательной политики в отношении осужденных по этим статьям.
Революционная дисциплина и повышение бдительности не помогли добиться существенного снижения количества хищений общественной собственности. В III квартале 1941 г. число осужденных по п. «г» и «д» ст. 162 УК РСФСР составляло 468 чел., а в IV – уже 4 934. Рост количества преступлений в IV квартале произошел за счет кражи хлеба в колхозах и совхозах. Это было связано с тем, что если в июле-сентябре хлеб еще стоял на корню, то в октябре-декабре, в период уборки и хлебосдачи, разворовывание зерна с токов и в процессе вывозки резко возросло. По оперативным сводкам, на 15 января 1942 г. народные суды Красноярского края осудили за хищение хлеба в IV квартале 1942 г. 402 чел. 2
Особенностью правосудия военного времени было усиление карательной политики нарсудов. Процент приговоренных к лишению свободы в общем количестве осужденных в первый год войны приведен в табл. 2.
Таким образом, несмотря на общее снижение количества рассмотренных дел во второй половине 1941 г., число приговоренных к лишению свободы возросло по сравнению с довоенным полугодием почти на
6 %. Война выдвигала особые требования не только к солдатам действующей армии, но и к тем, кто трудился в тылу. Те деяния, которые в мирное время не представляли большой общественной опасности, с началом войны превратились в серьезные преступления.
Низкий уровень жизни в СССР, карточная система снабжения, дефицит продуктов и товаров, особенно усилившиеся в военное время, провоцировали граждан к соверше-
Сравнительные данные об осужденных по отдельным статьям УК РСФСР в 1941 г. *
Таблица 1
|
Статья УК РСФСР |
Число осужденных, чел. |
Снижение |
Примечание |
||
|
1-е полугодие |
2-е полугодие |
абс. |
% |
||
|
74 ч. 1 |
1 374 |
517 |
857 |
62,4 |
Хулиганство |
|
74 ч. 2 |
714 |
524 |
190 |
26,7 |
Злостное хулиганство |
|
107 |
163 |
78 |
85 |
52,2 |
Спекуляция |
|
116 ч. 1 и 2 |
671 |
559 |
112 |
16,9 |
Растрата |
|
162 п. «г» и «д». |
1 483 |
1 402 |
81 |
5,5 |
Хищения общественной собственности |
|
162 п. «е» |
821 |
425 |
396 |
48,3 |
Мелкие хищения из учреждений и предприятий |
|
Указ от 26.06.1940 |
10 258 |
8 559 |
1 699 |
16,7 |
Прогулы |
|
Другие статьи |
5 648 |
4 235 |
1 413 |
25 |
|
|
Итого |
21 133 |
16 299 |
4 834 |
22,8 |
|
Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 421. Л. 6.
Карательная политика нарсудов Красноярского края в 1941 г.
Таблица 2
|
Период |
Осуждено |
||||
|
всего, чел. |
в том числе к лишению свободы |
в том числе к мере наказания, не связанной с лишением свободы |
|||
|
чел. |
% |
чел. |
% |
||
|
I квартал |
4 463 |
2 914 |
65,3 |
1 549 |
34,7 |
|
II квартал |
3 979 |
2 569 |
64,6 |
1 410 |
35,4 |
|
III квартал |
3 347 |
2 311 |
69 |
1 036 |
31 |
|
IV квартал |
2 803 |
2 038 |
72,7 |
765 |
27 |
|
1-е полугодие |
8 442 |
5 483 |
64,8 |
2 959 |
35,2 |
|
2-е полугодие |
6 150 |
4 349 |
70,7 |
1 801 |
29,3 |
|
За весь год |
14 592 |
9 832 |
67,4 |
4 760 |
32,6 |
Таблица составлена по: ГАКК. Ф. П-26. Оп. 3. Д. 421. Л. 9.
нию корыстных преступлений. Так, в начале 1942 г. возросло количество жителей края, судимых за спекуляцию. Ср.: в 1-м полугодии 1941 г. было осуждено 225 чел., обвинявшихся по ст. 74 УК РСФСР, 15 чел. были оправданы; во втором полугодии осуждены 96 и оправданы 18; в I квартале 1942 г. число осужденных за спекуляцию выросло до 148, двоим был вынесен оправдательный приговор 3. Такой вид деятельности, как перепродажа продуктов и товаров по более высоким ценам приобретает криминальный оттенок при монополии государственной торговли, которая не способна полностью насытить рынок. При названных выше условиях рост спекуляции неизбежен, несмотря на самые суровые репрессивные меры.
В военное время происходит снижение количества уголовных и гражданских дел, рассматривавшихся народными судами края. Если в III квартале 1943 г. в низшие судебные инстанции края поступило 31 330 уголовных дел, из которых было рассмотрено 27 142, то за аналогичный период 1944 г. поступило – 27 282, а рассмотрено 23 621 дело. В июле-сентябре 1943 г. народные суды приняли 13 180 общеисковых гражданских дел, рассмотрели – 12 899. В III квартале 1944 г. поступило 12 659 гражданских дел, было окончено – 11 479 4.
Уменьшение числа рассмотренных уголовных дел не означало снижения преступности. Напротив, число преступлений росло из года в год, качество же работы следственных органов ухудшалось. Наиболее опытные и квалифицированные сотрудники милиции и прокуратуры были мобилизованы в действующую армию, а новичкам не хватало образования и опыта, в результате чего многие преступления оставались нераскрытыми.
Снижение количества гражданских дел объяснялось сужением сферы применения договорных отношений и расширением применения административно-правовых методов.
К работе народных судов у партийных органов края имелся ряд претензий. Так, в 1943–1944 гг. 18,8 % уголовных и 47,3 % гражданских дел были рассмотрены с нарушением процессуальных сроков. Судебная коллегия краевого суда по уголовным делам отменила в этот период 30,9 % приговоров народных судов, коллегия по гражданским делам – 45,1 % 5.
Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что уголовное судопроизводство превалировало над гражданскими делами: высшие судебные инстанции более тщательно подходили к пересмотру уголовных дел, а партийное и советское руководство более строго спрашивало с судей за недочеты в работе с уголовными делами.
За нарушение норм указа от 26 июня 1940 г. наибольшее количество приговоров, вынесенных народными судами, были отменены судом краевым. Так, в первом полугодии 1943 г. из 545 подобных приговоров было отменено 314, или 57,6 %, а за аналогичный период 1944 г. на 346 приговоров последовало 196 отмен, или 56,6 % от всех судебных решений. Нарушение процессуальных норм состояло в том, что судьи рассматривали дела заочно, показания обвиняемых и свидетелей велись с нарушением ст. 80 УПК РСФСР, т. е. не конкретно, что не позволяло судебной коллегии краевого суда проверить правильность вынесенного приговора 6.
Уголовные дела, возбуждавшиеся по названному указу, составляли более половины всех дел, поступавших в народные суды. Похожие один на другой, они отнимали у судей много времени и сил, поэтому мало кто заботился о соблюдении правовых норм, стремясь поскорее закончить подобные процессы.
Более серьезные преступления входили в сферу деятельности Красноярского краевого суда, который выносил приговоры в отношении «контрреволюционеров», расхитителей государственной собственности, убийц. Краевой суд служил кассационной инстанцией, пересматривавшей решения народных судов.
В IV квартале 1941 г. в краевом суде было рассмотрено 455 уголовных дел по обвинению в «контрреволюционных» деяниях, из них 91 дело по ст. 58.10 ч. 1 УК РСФСР, 237 – по ст. 58.10 ч. 2, 120 – по ст. 58.14, по остальным статьям – 7. Судом в этот период были прекращены 4 уголовных дела, возбужденных против «контрреволюционеров».
Так, в процессе против В. Д. Воронова, обвинявшегося по ст. 58.12, выяснилось, что он не донес о соответствующем преступлении некоего Куренкова. Коллегия крайсуда нашла, что Воронов был привлечен к ответственности напрасно. Было установлено, что он не слышал антисоветских высказываний от Куренкова лично, об этом он знал от третьих лиц, а диспозиция ст. 58.12 предусматривала привлечение к ответственности лиц, не донесших о достоверно известных им деяниях 7.
Оправдание обвинявшегося в совершении «контрреволюционного преступления» не означало его освобождения. Нарком юстиции Союза ССР и генеральный прокурор СССР 20 марта 1940 г. подписали Приказ «О порядке освобождении лиц, оправданных по делам о контрреволюционных преступлениях». С этого времени граждане, оправданные судом по данным делам, не подлежали немедленному освобождению из-под стражи, а должны были направляться в те места заключения, откуда доставлялись в суд. Во всех указанных случаях суды обязаны были предварительно выяснять в органах НКВД, не имеется ли с их стороны каких-либо возражений в отношении освобождения этих лиц, и лишь в случае отсутствия таковых оправданные могли выйти на свободу 8.
Этот приказ поставил краевой суд в трудное положение. В начале войны на территорию края было «этапировано» около одной тысячи подследственных из Ленинградской области, обвинявшихся в совершении «контрреволюционных преступлений». Многие из них отказывались признавать себя виновными, а поскольку свидетели оставались на прифронтовой и оккупированной территории, доказательств их вины не было. Оказавшись в такой ситуации, председатель краевого суда И. В. Анипченко обратился к председателю Верховного Суда РСФСР Рубичеву и высказал соображение: «вносить такие дела в судебное заседание, значит заведомо идти на явный брак в работе, так как приговоры по данным делам Версуд будет вполне правильно отменять». Не желая нарушать закон и вступать в конфронтацию с НКВД, Анип-ченко предложил вышестоящей инстанции решить проблему следующим образом: «поскольку преступления совершены на территории, объявленной на военном положении, то эти дела, согласно Указу Правительства, должны рассматриваться военным трибуналом» 9. В 1942 г. предложение было реализовано на практике.
За I квартал 1942 г. в крайсуд по первой инстанции поступило 345 уголовных дел, из них 191 было возбуждено по ст. 58 УК РСФСР, а 6 дел было прекращено судом: 4 – за смертью обвиняемых, 2 – ввиду психических болезней обвиняемых. Больные, совершившие «контрреволюционные» деяния, будучи невменяемыми, были признаны крайсудом социально опасными и направлены на принудительное лечение с изоляцией от общества. Количество таких дел в январе-марте 1942 г. существенно сократилось по сравнению с IV кварталом 1941 г., когда за совершение «контрреволюционных преступлений» в краевой суд было передано 455 дел. Значительное снижение количества поступавших в крайсуд дел о «контрреволюции» объяснялось тем, что в этот период на основании указаний Правительства большинство дел этой категории рассматривалось во внесудебном порядке – Особым Совещанием НКВД СССР 10.
Изъятие большого числа дел, возбуждаемых по обвинению в совершении «контрреволюционных преступлений», из ведения судов общей юрисдикции было вызвано особой опасностью подобных деяний в военное время. Руководство страны посчитало необходимым рассматривать такие дела в упрощенном порядке, вернувшись к практике времен «большого террора».
Из всех осужденных «контрреволюционеров» в I квартале 1942 г. 82,9 % были приговорены к смертной казни (97 чел.) или лишению свободы сроком на 10 лет (66 чел.), к 8 годам лишения свободы – 17, к 7 – 14, к 5 – 3 чел. Ко всем подсудимым, признанным виновными в совершении «контрреволюционных преступлений», в качестве дополнительной меры наказания было применено поражение в правах. Исключение составила только осужденная Яблонская 1925 г. р. как несовершеннолетняя 11.
Политические репрессии не прекратились и с началом войны. По мнению С. А. Папкова, «систематическая и ожесточенная борьба с многочисленными “врагамиˮ на протяжении 1930-х гг. оставила глубокий след в сознании правящего слоя… в партийно-советских кругах постоянно поддерживалось убеждение о том, что озлобленные и притихшие внутренние враги не оставляют намерения воспользоваться кризисным моментом… политико-психологические комплексы “осажденной крепостиˮ отчетливо выступили на поверхность и проявились в действиях властей как только началась война» [2012. С. 313]. Судебные процессы против «врагов народа» рассматривались как сражения на внутреннем фронте и как продолжение боев на фронтах Отечественной войны.
Корыстные преступления и в практике крайсуда занимали видное место. С 22 июня по 31 декабря 1941 г. в краевой суд поступило 50 уголовных дел, возбужденных за нарушение положений постановления от 7 августа 1932 г. Из них одно дело было направлено по подсудности, пять – отправлено на доследование на стадии предварительного следствия, четыре – на доследование на стадии судебного заседания, и сорок дел было рассмотрено по существу. Большинство из этих дел было возбуждено по фактам хищения хлеба в колхозах, совхозах, на хлебозаводах.
Отмечались хищения и в системе наркомата финансов СССР, работники которого похитили более 10 т бумаги. Из 112 чел. осужденных, 101 обжаловал свои приговоры. Из Верховного Суда РСФСР были получены дела на 38 обвиняемых, 33 из них приговоры были утверждены полностью, остальным 5 смертная казнь была заменена заключением сроком на 10 лет 12.
Большая часть производимого хлеба направлялась на нужды действующей армии, в тылу же остро чувствовалась нехватка продуктов. Не все готовы были мириться с постоянным чувством голода, и кражи совершались у самого богатого собственника – государства.
Количество таких преступлений со временем не сокращалось. Так, в январе 1942 г. по постановлению от 7 августа 1932 г. было возбуждено 40 уголовных дел. Масштаб краж вынудил краевой комитет ВКП(б) вы- нести специальное решение об усилении охраны колхозного и совхозного имущества. Соответствующая директива была разослана председателям и секретарям райкомов. Краевой суд со своей стороны принял решение усилить судебную репрессию в отношении расхитителей социалистической собственности, применяя к ним полную санкцию Закона от 7 августа 1932 г. – расстрел 13.
Всего в I квартале 1942 г. краевой суд осудил по закону от 7 августа 1932 г. 229 чел., из них 204 обжаловали приговор. Из Верховного Суда РСФСР вернулись дела 114 чел., 80 – приговоры были утверждены, 23 – смертную казнь поменяли на десятилетнее заключение, 9 – была изменена квалификация, 2 дела были направлены на новое рассмотрение. Верховный Суд Республики отменил приговор в отношении троих осужденных. По одному и тому же делу проходили Иван Астанин, Акулина Астанина и Екатерина Прилукова. Поводом для этого послужило грубое нарушение краевым судом процессуальных норм: Акулина Астанина, не арестованная следственными органами после возбуждения уголовного дела, не была вызвана на судебное заседание, и процесс проходил в отсутствии обвиняемой. Председательствовавший член крайсуда Журавлев, оставшийся без показаний Астаниной, недостаточно подробно исследовал материалы дела. В результате этого Верховный Суд РСФСР направил дело на новое рассмотрение со стадии судебного следствия 14.
Оправдательные приговоры в I квартале 1942 г. краевой суд вынес в отношении 9 чел., которые обвинялись по закону от 7 августа 1932 г., что составляло 3,37 % от общего количества инкриминированных в указанный период хищений по данному нормативному правовому акту. Характерные примеры процессов, итогом проведения которых были оправдательные приговоры, таковы: Анастасия Марковна Федоськина обвинялась в том, что в составе группы из 6 чел. похитила 14 ц 55 кг зерна в колхозе им. Маленкова Усинского района. На предварительном следствии Федоськину изобличил Шабайкин, бригадир вышеназванного колхоза, являвшийся организатором группы расхитителей. Во время судебного заседа- ния, в котором председательствовала член крайсуда Бочилло, Шабайкин отказался от показаний, компрометировавших Анастасию Марковну, и признался в том, что выдал ей 30 кг из похищенного хлеба, сказав, что это плата за трудодни. Алексей Гаврилович Вольневич 1924 г. р., возчик зерна колхоза «Красный ключ» Емельяновского района, подозревался в том, что вместе с другими возчиками (всего 7 чел.) похитил 23 мешка зерна. В ходе судебного процесса, в котором председательствовала В. Н. Лакс, было установлено, что Вольнев в групповых хищениях не участвовал, а украл в одиночку 2 мешка зерна в своем колхозе. В результате он был оправдан по закону от 7 августа 1932 г. и осужден по ст. 162 п. «д» на 3 года лишения свободы 15.
Как правило, ложное обвинение в хищениях государственной собственности в особо крупных размерах выдвигалось против тех, кто якобы совершал таковые в составе группы. Настоящие преступники, выказывая стремление помогать следствию, называли как можно большее количество «сообщников». Поэтому в ходе судебных процессов одной из главных задач судьи было отличить истинных злоумышленников от оклеветанных ими людей.
Как показала ревизия работы краевого суда за 1944 г., проводившаяся с 20 марта по 10 апреля 1945 г. управлением НКЮ по Красноярскому краю, деятельность и этого судебного органа не была лишена недостатков. Так, отмечалось, что краевой суд «недостаточно осторожно и вдумчиво подходил к применению высшей меры наказания». В 1944 г. крайсуд приговорил к смертной казни 23 чел. При этом Верховные суды СССР и РСФСР отменили 13 приговоров в отношении 17 чел., им расстрел был заменен длительными сроками лишения свободы 16. Чрезмерная строгость местных судов зачастую диктовалась желанием судей и народных заседателей перестраховаться, проявив беспощадность в отношении признанных виновными подсудимых. Это выразилось в решении краевого суда о применении смертной казни в отношении расхитителей. Однако высшие судебные инстанции такой способ борьбы с преступностью не поддержали.
Всего за 1944 г. высшие судебные инстанции оставили в силе без изменений 188 приговоров краевого суда, что составило 70 % от всех вынесенных решений. Было оставлено в силе с изменениями 26 приговоров (10 %), со стадии судебного следствия было отменено 20 приговоров (7 %), со стадии предварительного следствия – 36 (12,5 %), было прекращено 1 дело (0,4 %) 17.
В 1944 г. в краевой суд на пересмотр поступило 4 785 уголовных дел, в отношении 5 783 чел., решения по которым были вынесены народными судами края, из них по жалобам осужденных было отменено или прекращено 1 220 приговоров, т. е. 30,3 % от всех поступивших на пересмотр решений. По протестам прокуратуры отмена последовала по 395 уголовным делам (8,9 %). Из 4 785 приговоров было оставлено без изменения 3 116, были внесены изменения в 914 поступивших на пересмотр дел, на стадии предварительного следствия было отменено 552 приговора, на стадии судебного следствия – 552, были прекращены дела в отношении 363 чел. 18
Нужно отметить, что среди уголовных дел, которые рассматривал и пересматривал краевой суд, преобладали дела, возбужденные за хищения госсобственности, должностные преступления и нарушение положений указа от 26 июня 1940 г. В подавляющем большинстве случаев осужденные сами или с помощью адвокатов защищали свои права. В связи с этим в крайсуде отмечалось, что районные прокуратуры не уделяют должного внимания надзору за приговорами народных судов.
В качестве суда первой инстанции, коллегии по гражданским делам краевого суда приходилось рассматривать в основном споры между государственными органами. Всего в 1944 г. в крайсуд поступило 200 гражданских дел. По существу было рассмотрено 191 дело, 2 приостановлены, 1 передано в другую инстанцию, 6 были рассмотрены в 1945 г. По категориям эти дела распределялись следующим образом: 1) иски к ЕНУРПу: за невыполнение ответственного плана по его вине – 17, за невыполнение плана по вине клиентуры – 18, за недостачу и порчу грузов – 67, за просрочку в доставке грузов – 18, за простой судов – 9; 2) к Красноярской железной дороге – 35; 3) о расторжении брака – 5; 4) прочих – 31 дело. Из 191 рассмотренного дела в высших судебных инстанциях было обжаловано 53. Верховные суды СССР и РСФСР утвердили 42 решения крайсуда, 9 отменили 19.
В большинстве случаев ответчиками являлись транспортные организации: 164 иска было предъявлено к речному пароходству и железной дороге. Несмотря на то, что было введено военное положение на железнодорожном транспорте с 15 апреля 1943 г. и на водном – с 9 мая 1943 г., недостатки в работе перевозчиков по-прежнему мешали снабжению фронта и тыла. Гражданские иски были одним из способов заставить транспортников работать должным образом.
За тот же период коллегия краевого суда по гражданским делам рассмотрела 2 619 жалоб и протестов на решения народных судов, 1 121 решение было оставлено в силе, 204 – изменено, 1 216 – было отправлено на новое рассмотрение, 78 – прекращено. Значительная часть гражданских дел, рассмотренных народными судами в 1944 г., возникали в результате претензий государства к гражданам. Из 2 619 поступивших на пересмотр дел 485 являлись исками о взыскании недоимок по госпоставкам, 195 решений по таким делам было оставлено в силе, по 90 – изменены решения, 199 дел были отправлены на новое рассмотрение, 78 – прекращено. По 100 подлежащим пересмотру делам о возмещение ущерба за гибель скота было оставлено в силе 32 решения, 2 изменено, 65 направлено на новое рассмотрение и 1 прекращено.
Народные суды не преуспели и в рассмотрении частноправовых отношений. Так, из поступивших на пересмотр 160 решений по делам о разделах семейного имущества было оставлено в силе – 72, изменены решения по 4, на новое рассмотрение – 79, прекращено – 5 20. Помимо решения собственных проблем членам краевого суда приходилось исправлять недочеты деятельности народных судов.
Недостатки в работе судебных инстанций края объяснялись во многом кадровым составом судебных работников, основной проблемой которого являлся низкий уровень образования. На 1 июня 1941 г. из 88 народных судей Красноярского края 29 чел. не имели юридического образования, у 56 работников было начальное образование, при этом в заочной юридической школе обучалось только 15 чел. 21
В годы войны в судах отмечалась текучесть кадров, причиной была, прежде всего, мобилизация судей в действующую армию. Так, во втором полугодии 1941 г. 32 народных судьи были призваны в РККА и еще 5 сняты с должности по различным причинам. Из 15 членов краевого суда в этот период были мобилизованы 10. Всего с 22 июня 1941 г. по 1 января 1942 г. в крае в армию были призваны 52 судебных работника. На место мобилизованных приходили новые люди, часто еще менее квалифицированные 22.
Формированием судейского корпуса занимались партийные и комсомольские организации, выдвигавшие на соответствующие должности секретарей судебных заседаний, судебных исполнителей и нотариусов, зарекомендовавших себя с лучшей стороны. В военные годы одним из источников пополнения кадров юстиции были эвакуированные юристы.
Всего в 1942 г. на судейские должности в крае поступило 44 работника, из которых 8 чел. были выпускниками местной юридической школы, 8 находились в эвакуации, 7 демобилизовались из РККА, 7 являлись бывшими сотрудниками НКЮ, 13 чел. были выдвинуты партийно-советскими организациями из своих рядов. Специфика формирования судейского корпуса накладывала свой отпечаток на его состав. Советско-партийные и комсомольские организации выдвигали в органы юстиции коммунистов, комсомольцев и кандидатов в члены партии. На 1 января 1943 г. из 108 судей всех судов и трибуналов края лишь четверо являлись беспартийными, 88 чел. были членами ВКП(б), 16 – ВЛКСМ. При этом 50 % из них не имели юридического образования или оно ограничивалось краткосрочными курсами, только 3 сотрудника аппарата краевого управления НКЮ, 2 судьи краевого суда и 5 народных судей имели высшее образование 23.
К концу войны в судебных органах края по-прежнему большинство составляли малообразованные сотрудники. В начале 1945 г. высшее юридическое образование имели лишь 2 из 15 членов краевого суда – председатель И. В. Анипченко и самая молодая судья Д. Ю. Коген. Подготовка большинства судей ограничивалась шестимесячными юридическими курсами или годичной юридической школой. При этом среди пятнадцати членов крайсуда не было ни одного беспартийного. Отсутствие должного уровня образования компенсировалось богатым жизненным и профессиональным опытом. Большинство судей крайсуда, средний возраст которых был 35 лет, к тому времени имели солидный стаж работы в органах юстиции 24.
На местах ситуация с подготовкой судейских кадров выглядела еще более удручающе. Так, ревизия Хакасского областного суда, проведенная управлением НКЮ РСФСР по Красноярскому краю с 12 по 17 декабря 1944 г., показала, что ни один из пяти членов облсуда не окончил ни средней школы, ни высшего юридического учебного заведения, а образование председателя обл-суда Г. П. Трудолюбова вовсе ограничивалось тремя классами [Печерский, 2014. С. 70].
Преобладание в составе судейского корпуса плохо образованных специалистов объяснялось тем, что подготовка юристов в довоенное время не соответствовала потребностям органов юстиции ни количественно, ни качественно. В 1940 г. в РСФСР насчитывалось 37 юридических школ, в которых обучалось 4 225 чел. В данных учебных заведениях отсутствовал постоянный штат преподавателей, не хватало учебников, часто не было учебных программ [Соломон, 1998. С. 264].
Количественный рост студентов-юристов, имевший место в военный период, не мог полностью решить проблемы повышения образовательного уровня членов судейского корпуса. Юридические учебные заведения располагались по территории СССР неравномерно, потенциальным абитуриен- там было трудно добираться до городов, находившихся на значительном расстоянии от их места жительства. Многие из студентов-юристов, поступавших на заочное обучение, не имели возможности завершить курс обучения. В результате этого проблема качества судейских кадров оставалась актуальной до конца войны.
Оценивая судебную систему СССР в период Великой Отечественной войны, мы пришли к следующим выводам: с одной стороны, правосудие осуществлялось на основании закона, а не классового чутья как в первые годы Советской власти. Уголовный процесс носил состязательный характер, имелась возможность пересмотра судебного решения в вышестоящей инстанции. С другой стороны, на суды оказывали давление власти, судьи были обязаны подчиняться партийной дисциплине. Принимаемые в предвоенные и военные годы законы часто становились не основанием для осуществления правосудия, а причиной репрессий. Контроль над работой судебных органов лишал их самостоятельности, но при этом ограничивал чрезмерное рвение и недостаточную компетентность судей на местах, которые нередко становились причиной неправосудных решений.
Подобные противоречия привели канадского историка Питера Соломона к абсурдному на первый взгляд выводу о том, что «именно Сталин отверг антиправовые тенденции и отказался от многих революционных и социалистических начинаний большевистской юстиции, именно Сталин поддержал новые пути и средства для превращения работников юстиции в лояльных и послушных чиновников» [1998. С. 432– 433].
Война наложила свой отпечаток на отправление правосудия. Находившийся в глубоком тылу Красноярский край не был отнесен к местностям, в которых было объявлено военное положение, но законы военного времени действовали и здесь. В Красноярский край в начале войны, как в любой тыловой район, переселилось много беженцев и эвакуированных. Он стал местом пребывания большого количества репрессированных. В этот период значительно ухудшилось снабжение населения тыловых областей. Все это накладывало своеобразность на криминальную обстановку и гражданские правоотношения в крае.
Спецификой отправления правосудия в данном регионе было и его географическое положение. Площадь Красноярского края составляла более 2 млн кв. км, 8 из 10 его жителей населяли территорию южнее Ангары (около 10 % всей площади). Огромная площадь, слаборазвитые пути сообщения, тяжелый климат и малая плотность населения создавали большие трудности для организации выездных сессий судебных инстанций и доставки обвиняемых в суд.
Таким образом, на судебную систему оказывали влияние многие факторы: обязанность поддержания законности, специфический характер кадров судебных органов, законы военного времени. Все это сформировало особый характер судебной системы СССР периода Великой Отечественной войны, частью которого были суды Красноярского края.
Список литературы Советская судебная система в Красноярском крае в годы Великой Отечественной войны (на примере судов общей юрисдикции)
- Кожевников М. В. История советского суда. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. 376 с.
- Краснов Ю. К. Суды СССР в годы Великой Отечественной войны // История государства и права. 2010. № 9. С. 13-18.
- Папков С. А. Обыкновенный террор. Политика сталинизма в Сибири. М.: РОССПЭН, 2012. 440 с.
- Печерский В. А. Судебные органы и судейский корпус Хакасии в годы Великой Отечественной войны // Актуальные проблемы истории и культуры Саяно-Алтая. Абакан, 2014. Вып. 16. С. 65-78.
- Соломон П. Советская юстиция при Сталине. М.: РОССПЭН, 1998. 464 с.