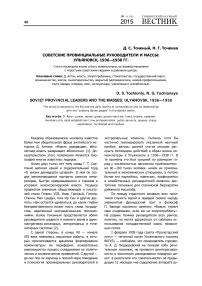Советские провинциальные руководители и массы: Ульяновск, 1936-1938 гг.
Автор: Точеный Д.С., Точеная Н.Г.
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: История и историография
Статья в выпуске: 1 (19), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена жизни и быту номенклатуры, ее взаимоотношениям с «простыми советскими людьми» в районном центре.
Д. актон, власть, злоупотребление, стяжательство, государственный пирог, мошенничество, взятка, очковтирательство, закрытый распределитель, низкий профессионализм, слуга народа, очереди, хаос, эксплуатация, униженные и оскорбленные
Короткий адрес: https://sciup.org/14114056
IDR: 14114056
Текст научной статьи Советские провинциальные руководители и массы: Ульяновск, 1936-1938 гг.
Каждому образованному человеку известна более чем убедительная фраза английского историка Д. Актона: «Власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно» [1]. Доказательством этого положения являются биографии многих известных лидеров.
Около двух тысяч лет тому назад Г. Т. Светоний написал яркий и содержательный труд «О жизни двенадцати цезарей». В нем он создал запоминающиеся портреты римских императоров, быстро превращавшихся в тиранов в условиях неконтролируемой власти. Позднее предметом внимания обществоведов и писателей стали Генрих VIII, Иван Грозный, Гитлер, Сталин, Мао Цзедун, Ким Ир Сен и другие деспоты. Нам остается удивляться, до каких глубин безнравственности может пасть глава государства, наделенный неограниченными полномочиями. Более туманным представляется облик руководителя среднего и нижнего звена в административно-командных, авторитарных и тоталитарных системах [2].
С одной стороны, в конце ХХ — начале ХХI века появились серьезные работы, в которых прослеживается динамика формирования номенклатуры на периферии, основательно анализируется процесс складывания ее политических и экономических привилегий. С другой — до сих пор не изучены в полной мере поведение и психология провинциальных руководителей в экстремальные моменты. Пытаясь хотя бы частично ликвидировать указанный научный пробел, авторы данной статьи решили раскрыть мотивацию действий и образ жизни номенклатуры в Ульяновске в 1936—1938 гг. В те времена это был средний по размерам город с численностью населения приблизительно 90—100 тысяч человек, ничем не примечательный в экономическом отношении, а потому бытие его партийных, советских, профсоюзных и хозяйственных руководителей являлось достаточно типичным для сталинской бюрократии районного масштаба.
По поводу страстного желания всех политиков служить верой и правдой своему народу знаменитый французский поэт и философ П. Валери иронично заметил: «Власть теряет свое очарование, если ею не злоупотреблять». На родине Ленина руководители всех рангов, понятно, не могли удержаться от соблазна использования государственной казны незаконным путем.
2 февраля 1938 года газета «Пролетарский путь» — печатный орган Ульяновского горкома ВКП(б) — сообщила, что председатель горсовета А. Д. Вердеревский не показал себя рачительным хозяином, не проявлял заинтересованности в экономном расходовании народных денег: в результате его «деятельности» за предыдущие 12 месяцев «на содержание аппарата ру- ководимого им учреждения было перерасходовано свыше 10 000 рублей». Естественно, что государственную финансовую дисциплину нарушали и многие более мелкие чиновники. Первенствовали в этом отношении должностные лица городского отдела здравоохранения.
«В ущерб работе и финансовому хозяйству, — констатировал в конце 1937 года ревизор А. Гейнце, — десятки тысяч рублей расходовались лечебными учреждениями на мероприятия, не предусмотренные планом и бюджетом. Например, производилось незаконное авансирование стройконторы. Этим покрывались убытки и бесхозяйственность на строительных работах. А некоторые лечебные учреждения, состоящие на городском бюджете, не получали ассигнований. Этому способствовал главный бухгалтер горздрава Хрипунов, который так запутал учет, что областные организации были вынуждены прекратить отпуск средств. В результате Ульяновск не получил значительные суммы, которые, несомненно, являлись бы большим вкладом в дело улучшения здравоохранения родины Ленина. Больше того, Хрипунов дошел до того, что растратил деньги, собранные для борцов Испанской Народной Республики. И, несмотря на это преступление, руководители горздравотдела держали Хрипунова на работе, доверяли ему ответственные дела» [4]. Ревизор также обнаружил, что Хрипунов, не имея на это никаких оснований, выписывал себе и друзьям чеки на получение денег; не отчитывался в расходовании довольно значительных сумм; нарушая инструкции, не сдавал наличные средства в госбанк; в итоге он присвоил несколько тысяч рублей [5].
Дурной пример вольного распоряжения государственными средствами руководителями горздрава оказался заразителен в среде администраторов лечебных учреждений. Их поразил вирус стяжательства.
«Странные дела, — отметил 12 февраля 1937 года «Пролетарский путь», — творятся в межрайонной больнице, в которой работают свыше 300 человек. Но главному врачу тов. Дмитриеву некогда заняться живыми людьми, если он по три дня не бывает на рабочем месте. Он занят. У Дмитриева шесть служб. Он — главный врач больницы, работает там же врачом в гинекологическом отделении, заведует школой медицинских сестер, преподает в этой школе, ведет занятия в фельдшерском техникуме и является врачом в поликлинике Красного Креста. Впору успевать только перебегать с места на место. По нескольку совместительств имеют почти все врачи больницы. Неприглядна в этом отношении и роль горздрава. Там имеются десятки заявлений врачей, желающих переехать на работу в Ульяновск, но их не принимают, так как формально все вакансии заполнены. В больнице не хватает штатных дежурных врачей, но тем не менее там предпочитают выплачивать зарплату совместителям.
Беготня врачей «по службам» вызывает, естественно, отсутствие внимания к людям, которое зачастую приводит к пагубным последствиям. В конце июля прошлого года в приемном покое больницы скончались мужчина и женщина, ожидавшие прихода врача. На просьбы больных поскорее их принять фельдшерица отвечала одно:
— Подождите, скоро придет врач.
Врач явился только тогда, когда уже оба были отправлены в морг.
Пример дисциплины в больнице должна бы показать парторг тов. Скородумова, но она полностью дискредитировала себя: ее семья, состоявшая из шести человек, кормилась за счет больничной кухни. Столь же удачно пристроились к государственному пирогу еще 15 человек персонала больницы: они питались за счет средств, отпускаемых на питание больных.
Аналогичные примеры растранжиривания казенных денег имели место и в других лечебных заведениях. Так, главный врач дома ребенка Моисеева перерасходовала фонд зарплаты на 6700 рублей, а руководитель санаторнобактериологической лаборатории Успенская — на 7700 рублей» [6].
В государственный карман залезали едва ли не все руководители советских, профсоюзных организаций, предприятий, различных контор, служб и т. д. На протяжении 1937 года заведующий отделом социального обеспечения Муравьев выписывал себе незаконные компенсации, а его преемник Хрущев повысил себе ставку зарплаты на 100 рублей в месяц [7]. Начальник дорожного отдела городского совета Баранов разворовывал государственное имущество весьма энергично. Под стать ему было его ближайшее окружение. Десятник Деревянкин представлял фиктивные счета за купленные материалы для дорожного строительства и получал по ним деньги. Личный конюх Баранова Жаринов тащил и распродавал все, что попадалось ему под руку: зернофураж, сено, муку и проч. Он обнаглел до того, что продал тарантас дорожного отдела, а деньги положил себе в карман [8]. Рабочий корреспондент «Пролетарского пути» поведал о том, что председатель Заволжского районного совета Ошарин совер- шенно переродился: «Он скатился до взяточничества и воровства. Гражданина Грибанова за взятку в 200 рублей избавил от уголовной ответственности. Тот обвинялся в сокрытии первого брака и двоеженстве. Гражданку Перфильеву за взятку в 25 рублей освободил от принудительных работ. Кроме того, Ошарин присвоил 125 рублей при покупке лошади для совета» [9].
Во все тяжкие пустился заведующий квартирно-посредническим бюро Дормидонтов. О его мошеннических операциях рассказал 16 апреля 1937 года корреспондент «Пролетарского пути» А. Андреев: «Этот начальник почувствовал себя полновластным хозяином. Бесконтрольность, царившая в горкомхозе, позволяла ему делать все по своему усмотрению. Он вселял в квартиры, переселял, обменивал комнаты. Ежедневно десятки людей разыскивали его, чтобы узнать, есть ли надежда получить квартиру. И, окрыленные надеждой, уходили. Но проходили недели, месяцы, а квартир не было. Некоторым надоедали ожидания, они шли с жалобами, сетовали на свою судьбу, но успокоенные обещаниями, продолжали ждать.
А Дормидонтов развивал свою «деятельность». Сначала он делал все с оглядкой, потом стал выдавать квитанции на получение квартир направо и налево. Корешки квитанций старательно уничтожал, а полученные по ним деньги присваивал. Он не гнушался даже мелкими суммами в 3—4 рубля. Наглый обман и обкрадывание трудящихся продолжались более четырех месяцев. За это время Дормидонтов успел обмануть более 100 граждан, присвоив их деньги».
А какая вакханалия наблюдалась при установлении ставок заработной платы у руководителей промышленных артелей в Ульяновске! Движимые алчными устремлениями, они, казалось, забывали, что живут в условиях государственного социализма. Колоритную картину нарисовал сотрудник «Пролетарского пути» Н. Рудин: «Процессом установления размеров заработной платы руководил председатель объединения городских артелей Паршин. Этот начальник обладает виртуозной способностью обходить законы за счет артельного кармана и награждать людей, которых он не без пафоса именует «моими кадрами». В особенности он показал себя при утверждении расходных смет. Вооружившись красным карандашом, председатель стал хозяйничать над штатными ведомостями всех артелей и менять зарплату, строго соблюдая чины и ранги.
— Так, артель «Культура и спорт». Председатель правления?
И всемогущая рука Паршина несколько задерживается, а затем зачеркивает стоявшую против этой должности цифру и записывает новую. Зарплата председателя артели «Культура и спорт» сразу скакнула вверх на 150 рублей в месяц. За председателем стояли заместитель и старший бухгалтер. Расточая щедроты, паршин-ская рука накинула им по сотне.
— А это кто? Уборщица? — карандаш скрипнул, вычеркивая цифру 72, обозначавшую зарплату уборщицы. На ее месте появилось 60» [10].
То же самое повторилось, когда Паршин взялся за анализ ведомостей артели «Коммунар». Руководителей ее он быстро «повысил в должности». Старшему бухгалтеру присвоил главного и ставку увеличил с 350 до 600 рублей. Плановика переделал в заместителя главбуха, делопроизводителя — в секретаря, бухгалтера общественного питания — в старшего бухгалтера. Соответственно, всем повысили оклады. Зато каждому из четверых сторожей артели «Коммунар» Паршин снизил зарплату на 25 рублей [11].
Редакция «Пролетарского пути» решила посмотреть, как же работают кадры, о которых столь трогательно заботился Паршин. Корреспондент А. Бояров отправился в артель инвалидов имени Красных партизан. И вот его заключение: «Она в 1936—1937 гг. работала очень плохо. Руководство артели составляло очковтирательские отчеты и действовало по своему усмотрению, не считаясь ни с чем. Председатель ее Арфа и заместитель Ховрина недавно уволились, оставив в наследство ни много ни мало 52 645 рублей дебиторской и 56 426 кредиторской задолжности, не считая безнадежных долгов. Плюс за короткий срок было просто растрачено 15 979 рублей. Плодово-ягодный питомник, принадлежавший артели, принес убыток в 11 315 рублей» [12].
Рабкор «Пролетарского пути» Филиппов побывал вместе с ревизором Облкожсоюза Букиным в артели «Ударник». Они выявили, что председатель ее Воинов и его сообщники Громов, Рвачев, Хохлов и другие специализировались на грязных жульнических махинациях. Оказалось, что артельный сад-огород, несмотря на хороший урожай, принес убытки на 7 тысяч рублей. Фрукты и овощи безбожно расхищались. Например, картофеля собрали 32 тонны, а на складе вскоре было украдено около половины. Воинов со своими собутыльниками «смело» расходовал артельные средства на кутежи, устраивал очень часто банкеты [13].
Красиво хотели жить и те, кто по долгу службы был обязан воспитывать юношество, являя собой эталон бескорыстия. Притчей во языцех стал директор индустриально-педагогического техникума Палочкин. Яркий портрет этого сеятеля вечного и разумного составил следователь П. С. Калмыков: «Около двух лет расхищал общественные средства и имущество. На деньги техникума для личного пользования он покупал биллиарды, фотоаппараты. Подделывал документы, незаконно получал приличные суммы из кассы. Перевез мебель из классных комнат на квартиру, исключив ее из инвентарной книги. Таким образом, как сам признался, «обогатился».
Прямые обязанности не выполнял. В студенческое общежитие не заглядывал. Не бывал он и на уроках преподавателей, не посещал даже заседание педсовета. По плану должен был вести занятия по пяти предметам — экономической географии, экономической политике, политической экономии, ленинизму и истории партии. Уроки, как правило, он не проводил, а если и являлся, то обязательно пьяным и плохо подготовленным. Работу индустриально-педагогического техникума обследовали инспектора крайоно Быстров и Морозов. Но ни тот ни другой не раскрыли эти махинации: Палочкин дал им взаимообразно из кассы техникума 300 рублей, которые до сих пор не возвращены» [14].
Скромное житие на среднюю зарплату надоело директору профтехшколы областного отдела социального обеспечения Ноздреву, а потому он шутливо предложил своему бухгалтеру Маслову подумать о какой-то форме «подъема настроения». Недолго думая, тот предложил «выйти за горизонты установленных окладов». Таким образом, они «самовольно увеличили свою зарплату». Как информировал анонимный рабкор «Пролетарского пути», работники городского финансового отдела «обнаружили это беззаконие» и потребовали «немедленно его прекратить». Однако администраторы профтехшколы не растерялись: они «написали приказ о снижении ставок и отослали его в городской совет», но на практике по-прежнему получали из кассы своего учебного заведения необоснованно завышенные оклады [15].
О том, до чего докатились руководители Дома колхозника, жители города Ульяновска узнали из заметки, которую на третьей странице поместил 15 марта 1937 года «Пролетарский путь»: «Различные обследователи нередко посещали этот центр для приезжих сельских жителей. Но почему-то никто из них не замечал, что администрация Дома колхозника отличается преступной халатностью. Она, занимаясь само- снабжением, довела прекрасное хозяйственное учреждение до развала. Здесь орудовала шайка проходимцев, воров, пьяниц и растратчиков во главе с директорами Пестряковым и Романовым. Чуждые люди сидели в бухгалтерии, они запустили все дела. Общежития и столовые доведены до антисанитарного состояния. Везде вши, клопы, грязь. Жулики и пьяницы при молчаливом попустительстве партийной организации разрушили хозяйство Дома колхозника».
Остается удивляться тому, какую изощренную изобретательность проявляли руководители всех рангов в борьбе за незаконную копейку. Они теряли остатки совести и элементарной порядочности. Так, рабкор П. сообщил редакции «Пролетарского пути» о том, что «директор леспромхоза Андреев и его заместитель Жирнов, получив 300 метров внефондовой мануфактуры для распределения между рабочими, разделили ее между служащими конторы» [16]. А вот еще одна незатейливая и, «к сожалению, очень грустная история». Рассказал ее корреспондент «Пролетарского пути» Г. Николаев: «Местком спиртоводочного завода в феврале 1937 года получил от Крайспиртотреста детскую курортную путевку. По рекомендации врача тов. Егорова она должна быть отдана или дочери кладовщицы Воронцовой, или дочери наклейщицы Кофеевой. Обе девочки нуждаются в лечении, а матери их получают небольшую зарплату. Что вы думаете, кому попала эта путевка? Сыну директора завода тов. Алдошину, хотя он менее всего нуждается в лечении. Кроме того, ведь тов. Алдошин получает до 700 рублей и мог бы приобрести путевку за свой счет. В этом виновна председатель месткома Никонорова, которая, не согласовав этот вопрос с членами месткома, отдала путевку директору завода» [17].
Но, пожалуй, наивысшую степень делячества, соединенного с коммунистической демагогией, продемонстрировали в 1938 году партийные и профсоюзные лидеры завода Володарского. В умении добыть дефицитные товары им не было равных. Они создали закрытый распределитель. Им руководил доверенный горторга, действовавший в полном согласии с секретарем парткома Майоровым и председателем профкома Барышевым.
Дефицитные вещи поступали, минуя магазины, в распределитель. Специальные корреспонденты К. Уралов и Р. Заводская рассказали читателям «Пролетарского пути» о системе его работы: «В порядке «закрытого распределения» были проданы фетровые валенки. Первым их обул доверенный горторга Матанцев, а затем их получили директор фабрики-кухни завода имени Володарского Кузнецов и его заместитель Капишников. Несколько пар пошло в заводоуправление и заводской комитет. От валенок не отказался секретарь парткома Майоров и редактор заводской газеты «Володарец» Дементьев.
Точно такая же «судьба» постигла и партию женских бот. Их заказал заводской комитет для стахановок. Но стало известно, что, за исключением одной пары, все боты были проданы женам руководителей заводских организаций. Таким образом «продавалось» сукно, шерсть и другие товары.
Заводской комитет вместо того, чтобы пресечь все эти безобразия, превратился в орган купли-продажи. Он заранее дает доверенному горторга заявки на материалы, готовое платье, а потом открывает торговлю ими» [18].
Ульяновцы были потрясены статьей о работе закрытого распределителя. Завод имени Володарского бурлил, обсуждая сенсационные для того времени факты. 25 января 1939 года на предприятии состоялось общее партийное собрание. Выступавшие на нем коммунисты единодушно осудили сложившуюся порочную практику распределения дефицитных товаров. Вспомнили они также и о других фактах позорного поведения членов парткома и завкома. Ораторы с возмущением говорили о том, что руководители этих органов выделили деньги «на устройство вечеров, сопровождаемых пьянкой». В частности, «такой банкет был проведен 11 января. Организация его обошлась в 1300 рублей. Члены завкома тт. Барышев, Озолина, Бакланова равнодушно смотрели на расхищение государственных средств». В итоге участники партийного собрания единогласно заклеймили «гнилую практику первого секретаря парткома Майорова и председателя завкома Барышева, которые сами нарушали принципы советской торговли и под видом снабжения стахановцев остродефицитными товарами распределяли их среди работников руководящих организаций завода» [19].
Не будем далее перечислять факты злоупотребления своим служебным положением руководителей предприятий, учреждений, учебных заведений города Ульяновска. Их было немало. Однако характерно, что они, как правило, не получали принципиальной оценки партийных, советских, профсоюзных органов, суда и прокуратуры. Об этом писал 29 ноября 1938 года на страницах «Пролетарского пути» следователь А. Филатов в своей статье «Мобилизовать общественность на борьбу с растратами»: «Руководители государственных организаций в на- шем городе во многих случаях не поднимают лучших людей на борьбу с расхитителями». Но ведь они не могли, а часто и не хотели пресекать попытки присвоения государственного имущества по той причине, что они сами сплошь и рядом занимались этим. И делали это в основном безнаказанно. В сети суда и прокуратуры попадались мелкие воришки, а руководители в большинстве уходили от наказания. При отсутствии оппозиции правящая партия ВКП(б) неизбежно вставала на путь прикрытия своих членов, виновных в преступлении.
2 февраля 1938 года уже упомянутый нами ревизор А. Гейнце, анализируя работу ульяновской юстиции, пришел к невеселому выводу: «Удивительнее всего то, что работники следственных и судебных органов проявляют исключительную либеральность к жуликам и проходимцам. Работники суда и прокуратуры способны до бесконечности мариновать дела о злостных нарушителях государственной финансовой дисциплины, о расхитителях общественной социалистической собственности. Из направленных в 1937 году 11 уголовных дел в прокуратуре до сего времени ни одного не доведено до конца». Этот вывод убедительно подтверждают итоги многих из упомянутых дел.
Заведующий квартирно-посредническим бюро Дормидонтов, присвоивший себе деньги более 100 граждан, преспокойно подал заявление об освобождении его от должности по собственному желанию и отправился на поиски работы в краевой отдел социального обеспечения. Здесь его «встретили с распростертыми объятиями и немедленно назначили начальником цеха» [20]. Председателя объединения городских промышленных артелей Паршина за явное нарушение финансовой дисциплины при установлении ставок вызвали в горфинотдел и сказали сурово, что он творит беззаконие, нарушая постановление Совнаркома РСФСР. Может быть, он испугался? Нет, Паршин с олимпийским спокойствием заявил: «Этот документ меня не касается». И никто его не привлек к ответственности [21]. А как расплатились руководители артели имени Красных партизан Арфа и Ховри-на за хищение десятков тысяч рублей? Да никак. Арфу перевели на другую работу — назначили председателем артели «Утиль», а Ховрина заняла должность заведующей молочным складом [22]. Наверное, нет необходимости прослеживать судьбы героев остальных уголовных дел. Все они без особого ущерба меняли место работы. И только. Ведь они сидели в каютах советского непотопляемого корабля, именуемого
«Номенклатурой». Суд вынес приговор только руководителям профтехшколы областного отдела социального обеспечения Ноздреву и Масловой, самовольно увеличивших себе зарплату. Приговор не был жесток: 6 месяцев исправительно-трудовых работ с вычетом 25 % из жалования [23].
Громы гремели и молнии сверкали над головами ульяновских руководителей только в тех случаях, когда они оказывались замешанными в политических делах. В остальном они могли жить умиротворенно и безмятежно, то есть вести бюрократический образ существования. Что они и делали. Мнение и взгляды населения города (рабочих, рядовых служащих, студентов) их почти не интересовали. Оно рассматривалось как сравнительно безликая масса. И только когда номенклатурные работники демонстрировали явное пренебрежение и неуважение к трудящимся, их пытались сдерживать некоторые журналисты.
В начале августа 1937 года к величайшему неудовольствию отцов города центральная «Правда» опубликовала письмо сотрудника «Пролетарского пути» М. Тамарина: «В Ульяновском горкоме считается «хорошим тоном» затягивать заседания бюро до глубокой ночи, а так как «персональные вопросы» включаются в конец повестки или их переносят на следующее заседание. Десятки людей, которых вызывают на бюро, ждут часами и уходят ни с чем. В июле, в разгар сельских работ, были вызваны на заседание горкома многие коммунисты из колхозов. В этот день заседание почему-то не состоялось, люди потеряли в городе сутки. На следующий день бюро, назначенное на час дня, началось лишь в семь часов вечера и закончилось к утру. При этом члены партии из колхоза «Первенство», просидев в городе двое суток, вынуждены были уехать, так и не разрешив своих дел» [24].
Прошло два месяца после публикации заметки М. Тамарина в «Правде», а потом в «Пролетарском пути». Состав бюро Ульяновского горкома ВКП(б) сменился после очередных перевыборов. Однако стиль работы новых руководителей ничуть не изменился: бюрократия оставалась бюрократией. 10 октября 1937 года «Пролетарский путь» поместил заметку парторга завода «Металлист» В. Глазачева. Заголовок ее — «Старая традиция» — был символичен. «У бывшего состава бюро горкома партии сложилась такая система, что вызывались к началу работы сразу по 40—70 человек. Наблюдалось немало случаев, когда люди, вызванные к опре- деленному времени, высиживали в коридорах горкома до 2-х часов ночи. К сожалению, эта странная система жива и по настоящее время. 3 октября, например, к 17 часам на бюро горкома были вызваны десятки людей. Ждать приема очень многим пришлось до 12 часов ночи. А некоторым после 8-часового шагания по коридорам пришлось уйти ни с чем: им объявили, что бюро горкома работу прекращает, и те, кто остался, будут вызваны в следующий раз. А разве нельзя сделать так, чтобы вызывать на бюро не всех сразу, а последовательно?»
Низкий профессионализм, отсутствие элементарной (не говоря уже о научной) организации труда, едва ли не откровенное презрение к широким массам были характерны и для стиля работы горсовета. Его руководители не сумели за более чем 15-летний срок как-то упорядочить, ввести в нормальную колею функционирование этого учреждения. Его стиль отличали суетливость, бестолковость, низкий профессионализм, что в свою очередь досаждало, раздражало, утомляло трудящихся.
«Пролетарский путь» дал точную зарисовку хода заседания президиума городского Совета, прошедшего в начале августа 1938 года: «Оно было недостаточно подготовлено. Ответственный секретарь Перухин уехал в Куйбышев в командировку и свои обязанности никому не передал. Члены президиума не получили заблаговременно повестку дня.
Сообщения докладчиков и выступавших в прениях были слишком длинны и расплывчаты. Больше 30 минут говорил докладчик, депутат Кудрявцев о банно-прачечном хозяйстве, перечислял много таких деталей, которые не интересовали собравшихся. Также длинно и мелочно говорил тов. Самсонов, директор этого предприятия. Председательствующий на заседании тов. Логушков не направлял выступавших по пути краткого и конкретного изложения вопроса. Проект постановления, как и сами доклады, не удовлетворили членов президиума и других присутствующих.
Много агитации, внушений вместо четких выводов и предложений было и в речи исполняющего обязанности председателя горсовета тов. Зиновьева по вопросу строительства. В результате с 7 часов вечера до часу ночи было рассмотрено только три вопроса» [25].
Критическая заметка не оказала никакого воздействия на руководителей горсовета. «15 ноября 1938 года, — информировал «Пролетарский путь», — состоялось очередное собрание президиума городского совета. Оно нача- лось с опоздания на полчаса. Все курят. Через час там сидеть становится трудно. На полу растут кучи окурков. Присутствующие сидят одетыми. Регламент для докладчиков и высказывающихся устанавливается формально, и никто его не придерживается. Заседание затянулось далеко за полночь» [26].
Над главным входом в горсовет висел большой лозунг: «Депутат — слуга народа». Наверное, он вызывал у многих посетителей этого учреждения грустную улыбку. Об этом свидетельствовала корреспонденция «Пролетарского пути», в которой рассказывалось о взаимоотношениях депутатов, как тогда говорилось, с «простыми советскими людьми»: «С девяти часов утра и до четырех часов дня в коридорах и приемных Ульяновского городского совета ждут десятки посетителей. Они часами стоят перед дверями отделов, днями выжидают неуловимых начальников, завов, секретарей, беспокойно заглядывая в открытые двери, нервничают, волнуются и часто уходят, не дождавшись нужного им работника.
Сколько дорогого времени колхозников, уехавших с поля, служащих, учащихся тратится здесь бесцельно. Колхозницы Уренского колхоза им. Молотова тт. Липатова, Сарситкина и Архипова приехали в город 1 августа 1937 года получить государственное пособие. В приемной Загса и финансового отдела они потеряли два дня. Легко себе представить, чего стоят шесть потерянных дней в горячую пору хлебоуборки.
Пастух из Заволжья Чикалов и пенсионер Кузьмин с девяти утра до половины первого ждали работника городского земельного отдела т. Алексеева. Завхоз поликлиники Давыдов и четыре других посетителя в этот же день более двух часов ждали заведующего городским отделом здравоохранения т. Сафронова. В Загсе постоянно ожидают приема 6—8 посетителей. Такое же положение и во всех остальных отделах горсовета.
Приходящие в горсовет люди часто не знают, куда им обращаться с той или иной жалобой, и ждут напрасно не того работника, который им нужен. Дежурный, сидящий в приемной горсовета, только указывает расположение тех или иных комнат, но не может направить посетителей в соответствующий отдел или учреждение. Специального консультанта для посетителей в приемной горсовета нет.
Ни в одном из отделов горсовета фактически не отведены часы для приема посетителей. А там, где эти часы установлены, люди не могут узнать о них: на дверях отделов нет соответствующих объявлений.
Заведующий горздравотделом, например, принимает с 9 утра до 11, но об этом знают только его сотрудники и он сам. Заведующий городским земельным отделом принимает «в любое время», но так как он в своем учреждении бывает редко, то посетители почти не могут попасть к нему. В остальных отделах часы приема также или не установлены, или систематически нарушаются.
В горсовете не созданы элементарные условия для ожидающих посетителей. На площадке третьего этажа — одна скамейка, и большинство пришедших сюда сидят на ступеньках лестницы, на подоконниках. В коридоре у военного стола утром масса народа, скамеек не хватает, и посетители располагаются у стен прямо на полу. Отдельными сотрудниками горсовета не соблюдается время обеденного перерыва. Задолго до двенадцати они начинают уходить в буфет и значительно позднее половины первого возобновляют прием. Нужно покончить с пренебрежительным отношением к трудящимся. Надо внедрить в практику чуткое отношение к посетителям» [27].
Скверно относились в горсовете к живым людям, еще хуже — к их письменным обращениям. «Старушка А. С. Григорьева, — обратил внимание корреспондент «Пролетарского пути» А. Белов, — в конце июня 1938 года обратилась в это учреждение с жалобой на владельца дома, у которого она квартирует и который издевается над ней. Горсовет направил жалобу прокурору, а тот 5 июля ее препроводил начальнику милиции для принятия мер. Сделал ли что начальник милиции, прокурор не поинтересовался. Да и в городском совете узнали о том, что по жалобе Григорьевой ничего не сделано, когда старушка пришла в горсовет 22 сентября. Это яркое свидетельство порочной системы, которая сложилась в этом солидном учреждении.
Сроки рассмотрения жалоб в горсовете не выдерживаются: только 17 сентября его президиум рассмотрел сразу 50 письменных обращений граждан, которые поступили к нему два месяца назад. А заявление матери красноармейца Осипова поступило 16 июля. А ведь городскому совету хорошо известно, что всякая жалоба должна быть рассмотрена в 20-дневный срок, а красноармейская — в 7-дневный.
Еще безобразнее относятся в горсовете к письмам рабкоров и селькоров, которые поступают из органов печати. Их регистрируют примерно так: 21.4.1938 — сигнал под заголовком «Бездельник» передан Коробову. И все. Откуда поступило письмо, о ком и о чем речь, каковы результаты — никто не знает. Таких писем, по которым не даны ответы, в журнале с апреля по сентябрь зарегистрировано 12. А несколько обращений, посланных редакцией «Пролетарского пути», вообще не могут найти. В городском совете отказываются понять, что за каждым письмом и заявлением стоит живой человек, гражданин социалистического государства» [28].
И в какое бы учреждение Ульяновска или, как говорили в ХIХ веке, присутственное место не заглядывали простые люди, они чувствовали, что их здесь не ждут и от них попросту хотят избавиться.
«Не завидую трудящимся, — писала рабкор Лешванова, — которым по тому или иному поводу приходится обращаться в городской отдел здравоохранения. Прежде всего, больших трудов стоит посетителю попасть в кабинет заведующего горздравом Сафронова, который там появляется как редкий гость. Поэтому у дверей его кабинета всегда толпа ожидающих. Вопросы, с которыми сюда идут люди, решаются неделями и месяцами. Заместитель заведующего горздра-вом Сорокина, на которой лежит обязанность разбора жалоб и заявлений, работает, как это многим заметно, по настроению. Заявления у нее залеживаются на долгие месяцы» [29].
Картина, которая наблюдалась у дверей заведующей городским отделом народного образования, настолько впечатляла, что «Пролетарский путь» посвятил ей свою передовую статью в номере от 9 марта 1937 года: «И раньше трудно было педагогу попасть на прием к руководителю гороно Беловой. Теперь эта задача усложнилась вдвое. Посетить ее можно только по четным дням. Немудрено, что перед кабинетом Беловой всегда длинный хвост. Вне очереди проходят лишь сотрудники гороно. Они сидят у нее долго. А «прочие» ждут. 28 февраля Белова со своим заместителем Белицким беседовала три часа. Для посетителей (учителей) времени не осталось. Второго марта — снова очередь. Приходят те же люди, что и двадцать восьмого. Тов. Гермашев приходит третий день за приказом о назначении на работу. Педагог Кудашева приехала в Ульяновск. Она вторично приходит к Беловой. Но попасть к ней нелегко. А ведь первоочередная обязанность советского работника — быть крепко связанным с массами».
О работе суда жители города говорили с усмешкой, замечая, что он у них остался без всяких изменений с гоголевских времен. Рабочий Н. Пономарев, посетивший редакцию «Пролетарского пути» в середине сентября 1937 года, пожаловался на «дубовую бюрократию» и
«беспорядок», царившие в нем: «Ежедневно суд разбирает множество дел, но слушание их организовано очень плохо. На одно и то же время — 9 часов утра — вызывают сразу всех. И ответчиков, и истцов, и свидетелей. И каждый из них вынужден поэтому по несколько часов просиживать в ожидании. Стоит ли доказывать, что при такой организации рассмотрения дел трудящиеся бесполезно тратят свое время» [30]. Как это обычно бывало, «начальство» знакомилось с критическими замечаниями в его адрес и абсолютно не реагировало. Спустя три недели после публикации резких высказываний рабочего Н. Пономарева в суд отправился журналист В. Дубов и увидел все то же знакомое зрелище: «Здесь не хотят урегулировать вопрос с вызовом граждан. Приглашают всех к 9 часам утра, а дело, возможно, будет разбираться в 5 часов вечера. И выходит, что у вызванного свидетеля, оторванного от срочной работы, пропадает в ожидании 8 часов. Но бывает и хуже: вызванные граждане, прождав напрасно весь день, уходят из суда ни с чем, ибо их дело перенесено на другой день. Вот пример: 26 сентября вызванные из Мелекесса граждане прождали в суде до 4-х часов дня, после чего им объявили, что дело их переносится на 1 октября» [31].
Размышляя над вопросом, что общего в работе суда и прокуратуры в Ульяновске, читатель «Пролетарского пути» Коробков пришел в феврале 1937 года к очень интересному выводу: «Если вам придется побывать в этих учреждениях, вы почувствуете, как здесь не умеют заботиться о людях. В ожидании приема приходится стоять у дверей кабинетов. В коридорах нет ни одной скамейки. О комнатах ожидания, о возможности почитать газеты и в прокуратуре, и в суде не имеют понятия. Уборные и те закрывают на замок, опасаясь посещения их посетителями. Юристы должны научиться уважать трудящихся» [32].
Символом хаоса и неразберихи в Ульяновске считался пищеторг. Работе его «Пролетарский путь» посвятил во второй половине 30-х годов десятки обличительных статей и заметок. Приведем в качестве примера одну из них: «Занимая одно из лучших помещений в городе, контора пищеторга не слывет, однако, культурным учреждением. Сколько здесь шума и беспорядочной толкотни. В комнатах необыкновенная скученность. Столы сдвинуты вплотную. Над сотрудниками клубы табачного дыма. У единственного телефона всегда очередь: один звонит, пятеро дожидаются. Причем эти пятеро не просто тихо и мирно ждут, а обсуждают но- вости, шутят с окружающими. Разговаривающему человеку приходится так кричать в трубку, что того гляди лопнут перепонки.
В коридорах грязные полы, вороха окурков. Не поместившиеся в комнатах люди вынуждены слоняться по коридорам. При сравнительно небольших затратах дирекция пищеторга могла бы изжить толкучку в коридорах: стоит только разориться на покупку скамеек. Вместо того чтобы повесить доску объявлений, в конторе пищетор-га расклеивают объявления и плакаты по всем стенам.
Между прочим, в нижнем этаже существует общая вешалка, но и сотрудники, и посетители, не снимая одежды и галош, следуют в кабинеты пищеторга и там уже раздеваются, вследствие чего все кабинеты пищеторга напоминают магазины готового платья.
Особо скажем о кабинете директора тов. Бизенкова. Он обставлен очень скромно. Один стол, а на нем горы бумаг, в которых утонул начальник. На стене две картины, а под ними грязные полосы и отверстия. 3—4 стула. Их бы хватило для посетителей, но у Бизенкова почему-то толкутся постоянно 15—20 человек. В кабинет к нему идут за делом и без дела. Разговоры с каждым ведутся длинные. Не кончив беседы с одним, директор отвечает на вопросы другого. Я был свидетелем такого пустопорожнего разговора директора с председателем артели «Ударник», продолжавшегося более получаса. Он не принес никакого результата.
За день директор и его сотрудники не успевают ничего сделать, а потому продолжают работать с бумагами по вечерам дома. И во всем этом виноват сам Бизенков, не умеющий организовать рабочий день в своем учреждении. Н. Айвин» [33].
Рекордсменами по части издевательств над трудящимися ульяновцы единодушно назвали работников паспортного стола 2-го отделения милиции. Жалоб на них было не счесть. Характеризуя его сотрудников, жители родины Ленина подчеркивали: «Они не способны даже трем свиньям корм раздать». «Девять дней, — возмущался В. Знаменский в письме в редакцию «Пролетарского пути», — я ходил во второе отделение милиции, чтобы обменять паспорт. И пока — безрезультатно. Паспорт я пока еще не обменял.
Четыре дня мне понадобилось, чтобы получить бланк. Это, оказывается, очень трудное дело. Еще до рассвета у здания милиции выстраивается в очередь свыше 100 человек. Через некоторое время выходит милиционер с бланками. Все бросаются к нему. Милиционер сует толпе несколько бланков (количество зависит от его настроения) и удаляется.
Первое время я вообще не мог добиться, во сколько часов и у кого можно получить бланк, так как в милиции на этот счет нет никаких указаний. Пришлось спросить у начальника паспортного стола. Он сказал, что можно получить в 9 часов утра. Я пришел к 8 часам 30 минутам. Выяснилось, что это уже поздно, нужно в 7—8 часов, а заботливые приходят к 3—4 часам утра.
Еще один день понадобился для сдачи паспорта в обменный стол. Теперь вот четыре дня хожу, чтобы получить новый паспорт. Испытание для меня начинается ежедневно с 8 часов утра. В здании милиции неимоверная давка и духота. За паспортным столом, окруженным толпой, еле слышным голосом выкрикиваются фамилии. Добраться до паспортного стола сквозь толпу невероятно трудно. А те, которые добираются, нередко возвращаются без пуговиц или с порванным пальто. Почему такой беспорядок с выдачей паспортов?» [34].
Самым «слабым звеном» среди ульяновского униженного и оскорбленного люда, вынужденного обращаться с просьбами и жалобами к «высокому начальству», были инвалиды. Их заявления, направленные в отдел социального обеспечения, без конца терялись. Так, гражданин А. И. Ульянов, как заметил 9 февраля 1938 года «Пролетарский путь», «из-за бюрократического отношения со стороны руководителей отдела социального обеспечения в течение года не может получить пенсию. Руководители завода имени Володарского, железнодорожного узла, сельскохозяйственного техникума с целью экономии средств откровенно саботировали выдачу документов на предмет оформления пенсии лицам, потерявшим трудоспособность» [35]. Подчас над ними просто куражились. «Ульяновская страховая касса, — выразил негодование рабкор Богданов, — заставляет инвалидов труда ходить за получением пенсии за десятки километров» [36].
На жалобы инвалидов руководитель городского отдела социального обеспечения Хрущев и его помощники реагировали своеобразно. «Обычным стилем для них, — чуть не плача рассказывали калеки, — стала вопиющая грубость. Выругать посетителя для многих сотрудников собеса — привычное дело» [37].
Остается вспомнить еще раз изумительные художественные произведения А. С. Пушкина «Станционный смотритель», Н. В. Гоголя «Шинель», Н. А. Некрасова «Размышления у парад- ного подъезда», А. П. Чехова «Толстый и тонкий». Горька и беспросветна была участь маленького человека в ХIХ веке. В 1936—1938 гг. измученному эксплуатируемому жителю Ульяновска было, как ни странно, гораздо легче: сталинская пропаганда внушала ему, что он самый счастливый человек на свете. Номенклатура в таких условиях благоденствовала, хотя не имела на это морального права.
-
1. Большая книга афоризмов. М., 2002. С. 107.
-
2. См.: Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991.
-
3. Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Ч. 2. Ульяновск, 1964; Край Ильича за 50 советских лет. Ульяновск, 1967; Родной город Ильича. Ульяновск, 1972; Симбирский-Ульяновский край в новейшей истории России. 1917—1991. Ульяновск, 2012.
-
4. Пролетарский путь. 1938. 2 февр.
-
5. Там же. 29 нояб.
-
6. Там же. 2 февр.
-
7. Там же.
-
8. Там же.
-
9. Там же. 1937. 4 июня.
-
10. Там же. 9 мая.
-
11. Там же.
-
12. Там же. 14 мая.
-
13. Там же. 26 авг.
-
14. Там же. 1936. 29 февр.
-
15. Там же. 1938. 3 апр.
-
16. Там же. 14 окт.
-
17. Там же. 1937. 29 марта.
-
18. Там же. 1939. 9 янв.
-
19. Там же. 29 янв.
-
20. Там же. 1937. 16 апр.
-
21. Там же. 9 мая.
-
22. Там же. 14 мая.
-
23. Там же. 1938. 3 апр.
-
24. Там же. 1937. 14 авг.
-
25. Там же. 1938. 30 сент.
-
26. Там же. 20 нояб.
-
27. Там же. 1937. 9 авг.
-
28. Там же. 1938. 26 сент.
-
29. Там же. 1937. 11 авг.
-
30. Там же. 24 сент.
-
31. Там же. 11 окт.
-
32. Там же. 1 марта.
-
33. Там же. 1936. 17 сент.
-
34. Там же.
-
35. Там же. 1938. 27 дек.
-
36. Там же. 1937. 4 сент.
-
37. Там же. 11 сент.
Список литературы Советские провинциальные руководители и массы: Ульяновск, 1936-1938 гг.
- Большая книга афоризмов. М., 2002. С. 107
- Восленский М. С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. М., 1991
- Очерки истории Ульяновской организации КПСС. Ч. 2. Ульяновск, 1964
- Край Ильича за 50 советских лет. Ульяновск, 1967
- Родной город Ильича. Ульяновск, 1972
- Симбирский-Ульяновский край в новейшей истории России. 1917-1991. Ульяновск, 2012