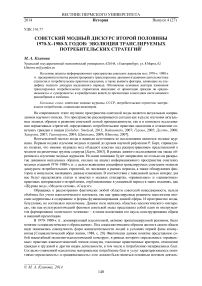Советский модный дискурс второй половины 1970-х-1980-х годов: эволюция транслируемых потребительских стратегий
Автор: Клинова М.А.
Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik
Рубрика: История советского общества
Статья в выпуске: 4 (27), 2014 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа информационного пространства советских журналов мод 1970-х-1980-х гг. предпринята попытка реконструировать транслируемые данными изданиями деятельностью стратегии и потребительские практики населения, а также выявить факторы, влияющие на специфику модного дискурса выделенного периода. Обозначены основные векторы изменения транслируемых потребительских стереотипов населения: от ориентации граждан на «рациональность» и «умеренность» в приобретении вещей до презентации в выгодном свете вещевого разнообразия и изобилия.
Советские модные журналы, ссср, потребительские стратегии, материальное потребление, социальная инженерия
Короткий адрес: https://sciup.org/147203577
IDR: 147203577 | УДК: 316.77
Текст научной статьи Советский модный дискурс второй половины 1970-х-1980-х годов: эволюция транслируемых потребительских стратегий
На современном этапе изучение пространства советской моды является актуальным направлением научного поиска. Это пространство рассматривается сегодня как в русле изучения актуальных модных образов и развития советской легкой промышленности, так и в контексте исследования нормативных стратегий, определявших потребительские практики населения и отношение советских граждан к вещам [ Golubev, Smolyak , 2013; Вайнштейн , 2007; Гурова , 2005; Деготь , 2000; Захарова , 2007; Тихомирова , 2004; Щипакина , 2009; Юшкова , 2007].
Неотъемлемой частью моды и важным источником ее исследования являются модные журналы. Первым поднял изучение модных изданий до уровня научной рефлексии Р. Барт, справедливо полагая, что именно журналы мод обладают властью над распространением представлений о модном на различные группы социума [ Барт , 2003]. В рамках данного исследования мы также обратимся к изучению модных журналов. Но наше внимание будет направлено не столько на раскрытие динамики визуальных образов, сколько на анализ информационного пространства советских модных изданий 1970–1980-х гг. с целью выявления специфики транслируемых советским модным дискурсом потребительских стратегий, их эволюции в рамках периода, а также обнаружения факторов и импульсов, вызвавших данные изменения. В соответствии с заявленной целью интерес для нас будут представлять статьи и заметки о модных стандартах, «правильных» и «девиантных» практиках материального потребления, опубликованные в указанный период в таких изданиях, как «Журнал мод», «Модели сезона», «Силуэт».
Обращаясь к рассмотрению фактически любой области советской повседневности, нельзя обойтись без учета идеологического контекста, так как транслируемые режимом идеологемы вносили коррективы в содержание и формы функционирования данной сферы. И пространство моды, безусловно, не составляло исключение. Данное поле являлось областью идеологического «интереса», так как культурологический феномен советской моды представлял собой один из инструментов формирования «советского человека» – в плане воспитания его вкуса, конструирования образа и внешней презентации.
В 1970–1980-х гг. доминирующей идеологемой, активно пропагандируемой режимом, было понятие «социалистического образа жизни». Под социалистическим образом жизни в самом общем виде понималась совокупность форм жизнедеятельности людей в условиях первой фазы коммунизма [Социалистический образ жизни, 1984, с. 20]. Фактически данное понятие представляло собой масштабный политико-идеологический конструкт, в рамках которого определялись «правильные» практики взаимоотношений членов социума, эталонные нравственные критерии, отношение граждан к трудовой и другим видам деятельности, в том числе к потреблению материальных благ. Согласно означенной идеологеме материальное потребление благ и услуг характеризовалось понятиями «предельность» и «рациональность» и не должно было являться основным мотивом деятель-
ностных стратегий советских граждан, ориентированных на максимализацию духовного потребления.
Система координат потребительских стратегий, обозначенная идеологемой социалистического образа жизни, получила реализацию и в отечественном модном пространстве 1970-х гг., где в качестве основных лейтмотивов при конструировании модного образа культивируются такие свойства, как «рациональность», «практичность», «простота», «оправданность». В частности, в ряде заметок, посвященных искусству одеваться, авторы отмечают: «Простота, логика и оправданность формы, соответствие своему назначению и декоративность, которая вносит радостную ноту в костюм, подчеркивают глубокую связь советского моделирования с жизнеутверждающим народным искусством» [ Соловьева , 1977, с. 3]; «Практичность – основа современной моды … Теперь под практичностью прежде всего мы подразумеваем удобство, легкость и простоту» [ Туровцева , 1977, с. 10]. Как следствие простоты и рациональности одежды, в отечественном модном дискурсе 1970-х гг. культивировались такие качества образа, как «неброскость» и «скромность»: «Тактичная, неброская нарядность, созданная самыми простыми средствами» [Форма – новая…, 1979, с. 18]; «Скромная элегантность и жизнестойкость» [Спортивный стиль…, 1979, с. 20]. Стремление населения к активной презентации посредством моды также не оценивалось положительно: «Порой можно услышать реплику девушки, листающей журнал мод: "Ничего особенного". Это разочарование: человек не нашел то, что искал. Но всегда ли нужно "особенное"? И для чего? Чтобы выделяться, привлекать к себе внимание? Все ли этого хотят?» [Комплекты молодым, 1979, с. 14].
В соответствии с действующей идеологической концепцией советская мода должна была выполнять и более важную задачу, чем сугубо утилитарное определение стилистических предпочтений граждан при выборе одежды. Она была призвана развивать духовные запросы советского населения: «В ней (в моде. – М.К .) ощущается глубокая связь с историей, искусством, социальным и культурным опытом многих поколений разных стран и народов. Это очень многоликая мода, активно воздействующая на эмоциональную сферу личности, отражающая не только материальные, но и духовные потребности человека» [Легко, тепло…, 1986, с. 11].
Помимо транслируемых режимом идеологем определенное влияние на содержание информационного пространства моды оказали реалии советского общества 1970–1980-х гг. Одним из таких вызовов советской реальности становится усиливающийся товарный дефицит . Отражением трудностей в приобретении одежды является усиление пропаганды умеренности вещевого потребления граждан, реализуемой через большую рациональность выбора и рачительность по отношению к вещам. В модных изданиях в качестве основной стратегии выбора образа и стиля рекомендуется ориентироваться на «долговечность» расцветки и модели, на те вещи, которые «были и останутся модными»: ткани некричащих расцветок (серые, коричневые), простые фасоны. Модницам авторы советуют ограничить вариабельность вкусовых предпочтений более узким коридором классического стиля, который «существует вне времени» и «моден всегда». (Такая ориентация советских граждан на рачительное «продление жизни вещей» читается и в многочисленных популярных изданиях советского периода: журналах «Работница», «Крестьянка», литературе по домоводству и т.д. И если в модный журналах данная тенденция реализуется в основном в рекомендациях по правильному выбору «долговечных» фасонов и расцветок одежды, то в означенных изданиях тренд «сохранения» вещей проявляется в актуализации более широкой тематики ремонта, починки и переделки [ Гурова , 2004; Герасимова, Чуйкина , 2004; Орлова , 2004, Смоляк , 2011].)
Еще одним трендом советских модных изданий, возникшим в связи с товарным дефицитом, становится ориентация населения на преимущественно самостоятельное изготовление одежды. (Данная тенденция отмечена как отечественными, так и зарубежными исследователями в качестве актуальной составляющей советской риторики и практики, способствующей конструированию идентичности советского человека [ Golubev, Smolyak , 2013; Widdis , 2009]).
На страницах модных журналов 1970–1980-х гг. советским женщинам рекомендовалось связать крючком или на спицах необходимые и модные вещи. Презентация одежды ручной работы, изготовленной с помощью различных видов рукоделия, становится особенностью советских модных изданий данного периода. В журналах мод появляются рубрики «Своими руками», «Сделаем сами», в которых на уровне демонстрации модных трендов или в форме пошаговой инструкции рассказывалось о связанных, сшитых или даже сотканных вещах: «Сотканная дома ткань избавляет от заботы: к лицу ли она. Если лицо – зеркало души, а ткань соткана с душой, не стоит сомневаться в удаче . Она не просто к лицу, она сродни душе создавшей ее мастерицы, подходит, словно кокон бабочке. … Натяните основу подлиннее, тогда смогут по очереди ткать и бабушка и мать и дочери, каждая из них, как хочет. Одежда на свой вкус, из ткани, которая тебе по сердцу, словно лучший друг – прикрывает плоть и радует душу. … из нее прекрасно получатся и брюки и жилет, платье и юбка, пальто, жакет, шапка, сумка. … Да и все остальное что за раз не перечислишь … даже маленький кусочек веселой полосатой ткани можно использовать как драгоценное украшение» [Веселые полоски, 1970, с. 39]. «Кто хоть раз попробовал придумать и сделать себе такую декоративновыразительную одежду, уже не сможет забыть тех творческих волнений, которые связаны с ее созданием. … А полученный эффект может превзойти все ваши ожидания» [В народных традициях, 1977, с. 43].
Для теоретического обобщения приведенных данных можно обратиться к работам О.Ю. Гуровой. Анализируя советские нормативные посылы, призванные регулировать сферу потребления населения, она определила транслируемую в 1970-е гг. идеологическую форму как концепцию «развеществления», стимулирующую население освободиться от товарного фетишизма и привязанности к вещам [ Гурова , 2005, с. 20]. Выявленная нами тенденция популяризации потребительской рациональности позволяет отчасти согласиться с гипотезой, предложенной О.Ю. Гуровой. В то же время предпринятый анализ отечественных модных изданий 1970-х–1980-х гг. дает основания утверждать, что транслируемые советским модным дискурсом потребительские стратегии не ограничивались понятиями «рациональность» и «умеренность». Параллельно с означенными трендами вызревали, нарастая, противоположные тенденции, не коррелирующие с идеологемой «раз-веществление».
Новой чертой модного континуума 1970–1980-х гг. становится популяризация роста вещевого потребления населения. Эта тенденция проявляется не в обращении к населению с призывом «Потреблять больше!», а в актуализации и легитимации потребительских стратегий, предписании положительных коннотаций растущему вещевому потреблению.
В первую очередь в модных журналах 1970-х начинает подчеркиваться «изменчивость» как неотъемлемое качество моды. Данное свойство моды отмечалось в отечественных изданиях и в более ранние 1950-е–1960-е гг., но оценочные суждения и коннотации, предписываемые данному явлению, существенно разнятся. Так, в 1950-е гг. скоротечность в обновлении модных образов характеризовалась как изъян, присущий исключительно зарубежной модной индустрии. Авторы заметок в модных изданиях активно выступали против «бессмысленных ежесезонных смен мод», трактуя «модную изменчивость» как достаточно серьезную экономическую проблему, с решением которой приходится сталкиваться населению западных стран: «Для женщины, для девушки, живущих в буржуазных странах, эта смена мод часто бывает подлинным бедствием, настоящим проклятием… Приходится тратить последние гроши, чтобы как-нибудь поспеть за прихотями моды, а иначе считается неприличным появиться в обществе, в конторе, где работает девушка, на улице в одежде "устаревшего" фасона» [ Кассиль , 1958, с. 27].
В 1970-е гг. в заметках, посвященных данной тематике, в отличие от публикаций 1950-х гг. нет ни раздражения, ни недоумения по поводу «модной изменчивости». Скорее в них звучит положительное принятие данного модного свойства, рассматриваемого уже в контексте не зарубежной, а советской реальности: «Хочется чаще обновлять свой костюм, менять его привычные формы» [Назвать себя…, 1977, с. 20].
Фиксируемый тренд отечественного модного дискурса, обозначившись в 1970-е гг., усиливается и масштабируется в 1980-е гг., когда «изменчивость» моделей, имея лишь положительные коннотации, презентуется как явление, необходимое населению, удовлетворяющее его первостепенную потребность в переменах. «Проходят годы, на смену одной модной идее приходит другая … как все в моде ничто не остается без изменений» [ Зайко , 1988, с.28]; «Мы устали от привычного, устоявшегося» [Мода в ансамбле, 1988, с. 5]; «Мода с очаровательным вероломством ломает даже самые, казалось бы, надежные прогнозы. … Если и можно о чем говорить с большей или меньшей определенностью – так это о тенденциях возможного ее развития … при невероятно быстрой смене одних предложений другими, новыми» [Там же].
Помимо культивирования модной изменчивости новым «антидефицитным» и «нерациональным» трендом отечественных модных изданий 1970–1980-х гг. становится сосредоточение читательского внимания на таком важном качестве моды как «разнообразие» образов и стилей.
Эта особенность обращает на себя внимание, так как в более ранних модных изданиях «разнообразие» не являлось подчеркнуто важной характеристикой отечественной моды: «для женской одежды по-прежнему характерны три стиля – классический, спортивный и фольклор» [Мода, 1967, с. 5]. Как следствие, само понятие «быть модным» предполагало попадание в пространство, ограниченное достаточно узкими стилистическими рамками.
В 1970-е, а особенно в 1980-е гг. разнообразие становится важным качеством модного предложения, преподносясь как его атрибутивная характеристика. «Модная одежда это прежде всего красивая и разнообразная одежда, способная удовлетворить самый взыскательный вкус» [Эскиз…, 1977, с. 25]; «Многообразие современной моды предоставляет полную свободу выбора» [Мода благоволит …, 1977, с. 44]. Быть модным в 1970–1980-е гг. предполагало быть разнообразным, разным: «В моде большой парад стилей – двадцатые годы встречаются с 60-ми, а отголоски 50-х – с воспоминанием о 80-х. … Так называемый испанский стиль встречается с "прекрасными теннисистками" 20-х гг. и с обновленным сафари, на сей раз элегантным. Как быть модной? Ответить на этот вопрос становится все труднее» [ Высоцка-Темпска , 1988, с. 38].
Третьим новым трендом, фиксируемым в советских модных изданиях 1970–1980-х гг., становится популяризация таких качеств одежды как «нарядность», «эффектность». «Мы ждем от вещей, … чтобы они были модными и эффектными … нарядными, женственными» [ Куницына , 1988, с. 9]. Специфично, что такая презентационная функция вещей как «нарядность» в рамках формируемых модным дискурсом потребительских стереотипов успешно конкурирует с «практичностью», «рациональностью» и «удобством» одежды. «Хорошо, когда модно то, что удобно. Но кроме того мы хотим быть женственными и элегантными» [Осень в городе, 1978, с. 26]; «Остается модной широкая модная одежда и костюмы с узкими юбками, тормозящими свободный шаг» [ Высоцка-Темпска , 1988, с. 38].
Данная тенденция качественно отличает модный дискурс 1970–1980-х гг. от публикаций предшествующих лет, в рамках которых пропагандировалась в первую очередь утилитарная, а не декоративная функция одежды. Как замечал В.И. Кантор в работе, изданной в 1963 г., «простота и целесообразность – вот основной принцип советских художников-модельеров в разработке современной одежды» [ Кантор , 1963, с. 26].
Еще одной важной новацией информационного пространства советских журналов мод 1970– 1980-х гг. становится высвечивание ранее не обозначенных психологических качеств моды, в частности, таких, как корректировка настроения, самочувствия с помощью переодевания в модную одежду: «Мода не только воспитывает вкус - она улучшает наше самочувствие» [ Высоцка-Темпска , 1988, с. 38]. Возможность настройки самочувствия путем перевоплощения, лицедейства актуализирует игровую функцию моды, легитимирующую право населения на презентацию себя в различных ролях и образах в зависимости от желания и настроения. «Сегодня модель хоть и ограничивает движения, но по-другому, легко и незаметно вовлекая женщину в удивительную, образную игру, которая помогает снять напряжение будничных дел и забот» [ Аршавская , 1988, с. 17].
Важность указанного тренда, читающегося наиболее объемно в модном континууме 1980-х гг., обусловлена его абсолютной новизной для нормативного пространства советской моды. В предшествующие годы такие свойства моды, как театральность, лицедейство, перевоплощение, (близкие по смысловым коннотациям к некоторому лукавству, сокрытию своего «истинного я» и замене его искусственно воссозданным и презентуемым с помощью модной игры образом), не только не популяризировались, но и категорически отрицались. В заметке «Юные работницы строят новый быт», опубликованной в журнале «Работница» в 1924 г., отмечалось, что девушек-работниц особо интересует вопрос о том, «можно ли пудриться и мазаться»? Постановили: «Не пудриться и не мазаться. Лицо портится и нехорошо. Как будто обман какой» [Юные работницы…, 1924, с. 13]. Модное лицедейство стигматизировалось и в 1950-е гг. Именно в попытках «стараться выглядеть», «присваивать» себе образ обвинялись стиляги – первопроходцы модных перевоплощений. Трансформация образа интерпретировалась через понятия «двуличность» и даже «лицемерие», так как по-советски «правильная» мода ни в коем случае не была призвана маскировать, прятать и, тем более, подменять одну внешнюю реальность другой. По поводу нарядов стиляг Л. Кассиль рассуждал: «Дело не в длине пиджака, чрезмерной узости брючек или юбок или, наоборот, в необозримой широте клешей! Бог с ними… Дело не в фасонах. Но беда в том, что эдакий хлыщ или подобная модница старается выглядеть иностранцами на нашей улице. Они и особую манеру речи себе присваивают с каким-то импортным шиком, который переняли с экрана, где шла заграничная, не дублированная на русский язык кинокартина. И походку-то они себе вырабатывают какую-то разухабисто-расслабленную: дескать, обошли они чуть ли не весь мир на своих рубчатых подошвах, все на свете видели, все им наскучило, вот и притомились… Хороший вкус – верный, правдивый вкус. Он призывает всякого быть самим собой, оставаться истинными и на словах и на деле». [Кассиль, 1958, с. 25–26].
Таким образом, для более раннего советского модного дискурса было не приемлемо легкомысленное отношение к конструированию внешнего облика, призванного отражать и определять достоверность и правильность внутреннего личностного содержания. В 1970-е, и в особенности в 1980-е гг., отношение к моде трансформировалось. Оно стало более терпимым и легким к внешней презентации советского человека, которому теперь было позволено образно меняться, не только в связи со сменой сезона, но и в зависимости от индивидуального настроения, желания игры, перевоплощения.
При изучении информационной составляющей советского модного континуума обращает на себя внимание тот факт, что в 1980-е гг. со страниц модных изданий фактически полностью исчезает такая функция одежды, как формирование и демонстрация целостности идейного содержания личности, презентуемая на протяжении большей части советского периода как одна из атрибутивных составляющих отечественной моды. Этот факт позволяет говорить о произошедшем к 1980-м гг. разрыве взаимосвязи внешнего облика и внутреннего личностного содержания. Данная взаимосвязь понималась ранее как проявление личностной целостности советского человека, в результате чего в сфере влияния советской моды находилось не только конструирование актуального внешнего облика, отвечающего утилитарным и эстетическим запросам граждан, но и сохранение идейной и идеологической адекватности образа, не нарушающей идентичности советского человека, его нравственных и этических качеств. К 1980-м гг. отечественный модный дискурс постепенно утрачивает функцию морального воспитания населения, что проявилось в уменьшении количества заметок, освещающих проблемы этики, и большей сосредоточенности модных изданий на вопросах собственно моды. В результате в 1980-е гг. в компетенции советской моды остается лишь обеспечение актуального внешнего образа, не имеющего отношения к формированию внутреннего, тем более «по-советски» идеологически правильного личностного содержания.
На наш взгляд, данная тенденция служит свидетельством произошедшего в 1980-е гг. ограничения присутствия идеологии в сфере советской повседневности, неотъемлемой частью которой являлись стратегии потребления населения, а также модное пространство, формирующее критерии потребительского выбора граждан. Подчеркиваемые в рамках нормативных моделей потребления 1920-х–1960-х гг. «идеологическая идентичность» и «советскость» отечественной моды к 1980-м гг. растворяются в культивируемых «разнообразии» и «изменчивости». Пространство отечественной моды перестает презентоваться как специфически «советское», «социалистическое» как в контексте идеологической стерильности и целостности, так в интернациональном плане.
Проявлением «модного интернационализма» 1970–1980-х гг. становится презентация советской моды не в противопоставлении западным веяниям и не изолированно от них, а в русле общемировых модных трендов. Данную тенденцию можно проследить по общей тональности отечественных публикаций, в которых понятие «западная» перестает сопровождаться отрицательными коннотациями, а ярко окрашенный идеологически термин «капиталистический» не встречается в негативном, оппозиционном контексте. В советских модных изданиях фиксируется расширение объема информации о зарубежной моде. В журналах появляются рубрики «На улицах Парижа», «Мода открывает занавес», «Хельсинки – Москва», «Эмпорио Армани в Москве», «Дизайн за мир», «Семь дней в Париже» и т.п., в которых читателей знакомили с основными тенденциями западной моды.
При теоретическом обобщении данных о потребительских стереотипах, формируемых модным дискурсом, на наш взгляд, нельзя обойти вниманием работы Ж. Бодрийяра, внесшего существенный вклад в разработку модели «общества потребления». Конструируя эту модель на основе изучения французского социума 1960–1970-х гг., он фокусирует внимание на анализе типичных смыслов, значений и образов, которые характерны для обыденного сознания граждан «общества потребления», и предпринимает попытки их интерпретации.
Рассматривая проблему в русле изучения смыслов, знаков, идеологем, бытующих в социуме,
Ж. Бодрийяр выделяет следующие черты общества потребления: представления людей о вещах и потребительских практиках как знаках статуса, престижа и комфорта; представления о вещах и других благах как материале для конструирования различий; представления о том, что вещь обязательно должна быть частью ансамбля; представления об изобилии как маркере избранных, о той жизни, к которой следует стремиться [ Папушина , 2009, с. 22]; представления об игровой деятельности в отношении к вещам как проявлении «абстрактной манипуляции знаками престижа соответственно вариантам моды» [ Бодрийяр , 2006, с. 102].
В рамках данной работы мы не беремся рассуждать о том, существовало ли в СССР «общество потребления» как определенная стадия развития социального континуума в его «бодрийяров-ском» видении. Более важным в этом контексте является иной аспект проблемы. Сопоставление приведенных «потребительских» компонентов советского модного дискурса 1970–1980-х гг. и отмеченных Ж. Бодрийяром черт, присущих «обществу потребления», позволяет выявить их существенное сходство. На наш взгляд, это дает основания утверждать, что такие элементы нормативных практик, транслируемые советской модой в эпоху позднего СССР, как ничем не ограниченное разнообразие и изобилие моделей и фасонов, новизна меняющихся образов, отодвигающая на задний план практичность и рациональность в качестве критериев выбора наряда, а также восприятие моды как части игры, лицедейства, перевоплощения, были направлены на формирование у населения Советской страны психологических потребительских паттернов, отвечающих «обществу потребления» (в предложенном Ж. Бодрийяром понимании). Путем артикуляции и визуализации данных элементов происходила стимуляция советского социума: потреблять больше, легче, абстрагировавшись от рационального.
Рассуждая о причинах трансформации советского модного дискурса 1970–1980-х гг., вряд ли уместно предполагать, что трансляция означенных посылов являлась частью официальной советской социальной и идеологической политики, так как, во-первых, превалирующей идеологемой данного периода выступала концепция «социалистического образа жизни», не поощряющая максимализации материального потребления, во-вторых, сфера моды в 1970–1980-е гг. постепенно выходила из под идеологического контроля (этот факт подтверждают в том числе приводимые нами данные). Соответственно она уже не являясь рупором официальной политики. Поэтому истоки произошедших изменений, вероятно, лежат в иных сферах.
На наш взгляд, в поисках причин трансформации советского модного дискурса нельзя не учитывать фактор «западного» влияния. Западные модные эталоны и стандарты, распространенные в моде, музыке и кинематографе, достаточно легко проникали сквозь «железный» занавес, утративший свою непроницаемость в 1970-е и являвшийся достаточно условным в 1980-е гг. Поэтому не удивительно, что носителем лозунгов максимализации потребления становится именно мода, отличающаяся от других сфер повседневности большей интернациональностью и динамизмом. Через моду с ее актуальными визуальными образами в СССР проникают элементы поведенческих потребительских практик, характерных для западных капиталистических стран, где, по утверждению большинства социологов, к 1970-м гг. сложилась специфическая социально-экономическая система (стадия), ставшая базовой для формулирования особенностей теоретической модели – «общества потребления».
В то же время, определяя природу означенных элементов модного дискурса как «западную», корректно говорить о них именно как об «элементах», так как в целом модное пространство советского периода, безусловно, не было аналогичным западному. Обходя проблематику выявления идентичности отечественных и зарубежных визуальных образов, можно заключить, что, во-первых, советский модный дискурс в отличие от западного не был пронизан агрессивной рекламой и пропагандой сексуальности; во-вторых, советское модное пространство испытывало на себе определенное воздействие идеологических императивов, а также влияние экономических реалий, в частности необходимости преодоления товарного дефицита.
Возвращаясь к рассмотрению изменений, произошедших в модном дискурсе в эпоху позднего СССР, логично предположить, что они были обусловлены не только проникновением и распространением зарубежных образцов потребительского поведения. Эти изменения имели и внутренние причины. Среди них, несомненно, следует назвать ослабление в 1980-е гг. идеологического контроля за различными сферами общества, включая моду. Но, на наш взгляд, более значительную роль в процессе информационной трансформации советского модного пространства сыграл общий стадиальный социально-экономический контекст развития СССР.
Начиная с 1950-х гг., когда в СССР сфера материального благосостояния населения стала областью идеологической конкуренции, под лозунгом «Догнать и перегнать!» (капиталистические страны) активизируется государственная деятельность, направленная на повышение уровня жизни граждан. Правительством с середины 1950-х по 1980-е гг. декларировалось, что «максимальное удовлетворения растущих потребностей населения» является главным вектором государственной стратегии. Эта стратегия была реализована в мероприятиях по повышению доходов граждан, увеличению количества и расширению ассортимента товаров широкого потребления, в массовом строительстве благоустроенного жилья и т.д. В результате стремительной урбанизации в 1986 г. горожане составили две трети жителей страны, следствием чего явилось изменение образа жизни населения – городские стандарты потребления стали нормой.
Наряду с ростом уровня обеспеченности товарами и повышением степени их доступности для населения трансформацию претерпели психологические установки и потребительские стереотипы граждан. Факт роста потребностей населения в 1970-е–1980-е гг. был подтвержден отечественными социологами [ Возьмитель , 1984; Левыкин, Покровская , 1984; Народное благосостояние…, 1991; Семья и народное благосостояние…, 1985]. Детально характеризуя систему потребительских ориентиров советского социума через структуру спроса, они выделили в качестве его специфической черты, появившейся в конце 1970-х – начале 1980-х гг., значительное превалирование спроса на предметы, служащие средствами украшения, самовыражения, создания уюта и комфорта в квартире. Значительной интенсивностью характеризовались потребности в модной одежде, меховых изделиях, высок был спрос на мебель, ковры, хрусталь, электроаппаратуру, цветные телевизоры, стереоаппаратуру, предметы бытового назначения – холодильники, стиральные машины новых марок, средства передвижения – автомобили, лодки, а также на предметы, служащие удовлетворению любительских интересов, – киноаппаратуру, туристическое снаряжение. Анализ картины спроса позволила И.Т Левыкину и М.В. Покровской прийти к выводу, что «характерной чертой образа жизни советских людей является высокий уровень развития материальных потребностей» [ Левыкин, Покровская , 1984, с. 37].
Социологические разработки зафиксировали значительный рост потребностей граждан в сфере так называемого «престижного потребления», реализуемых в стремлении приобретать статусные вещи [Семья и народное благосостояние…, 1985, с. 114, 118]. Нельзя не добавить, что проявление стремления к покупке вещей и предметов, подчеркивающих статус их владельца, находит отражение и в исследуемом пространстве модных журналов 1980-х гг. Так, С. Куницына в своем очерке «На пике моды» замечает: «Современные вещи должны отлично служить своему владельцу, а не быть лишь яркой витриной его благосостояния» [ Куницына , 1988, с. 4].
Повышение материальных потребностей советских граждан не всегда положительно оценивалось отечественными обществоведами, зачастую определяясь через категории «потребительства» и «вещизма» [ Комаров, Чернявский , 1973; Общее и особенное..., 1987; Потребности, доходы, потребление, 1988]. Растущее стремление советского населения к приобретению товаров было основанием для диагностирования такого девиантного явления как «социально-экономический инфантилизм общественного сознания», проявляющегося в наивной уверенности в неограниченности материальных и финансовых ресурсов государства, которое обязано удовлетворять потребности граждан независимо от того, как они трудятся [ Ракитский , 1989, с. 11; Социальная сфера…, 1991, с. 13].
Вне зависимости от обществоведческих интерпретаций факта растущих потребностей населения можно констатировать, что общество позднего СССР психологически и фактически стремилось к максимализации потребления, считая удовлетворение своих потребностей легитимным требованием, реализация которого является основной задачей государства.
На наш взгляд, обозначенные социально-экономические, а также психологические изменения советского социума, повлиявшие на эволюцию потребительских стереотипов граждан, стали важным фактором трансформации модного дискурса в 1970–1980-е гг.
Говоря о теоретических аспектах влияния общества на специфику модной риторики, можно вспомнить исследования американского социолога Г. Блумера, который в эссе «Мода: от классовой дифференциации к коллективному отбору» (1969) выдвинул гипотезу, согласно которой мода является плодом действий многих акторов: дизайнеров, производителей, покупателей различных клас- сов, которые осуществляют отбор образов на основе коллективного вкуса [Blumer, 1969]. Коллективный вкус, в свою очередь, определяется «духом времени», коммутирующим идеи современного искусства, литературы, средств массовой информации и т.д. В результате создаваемые модные образы и эталоны фактически являются производными от коллективных ожиданий социума в конкретный момент времени.
Перенося теоретическую схему Г. Блумера на советские исторические реалии, можно предположить, что стремление советских граждан к максимализации потребления корректировало информационный контекст модного дискурса в указанный период: население жаждало разнообразия и легкости потребления, освобождения от пут рационализма, во многом обусловленного как идеологическими клише, так и дефицитностью советской экономики. В результате мода, являясь наиболее динамичной, изменчивой и восприимчивой к новациям сферой, на вызовы потребительского спроса отвечала популяризацией «облегченных» потребительских стратегий, не обремененных необходимостью рационального выбора.
Подверженность модного пространства влиянию социально-экономических реалий позволяет актуализировать вопрос: почему доминантным трендом советского модного дискурса 1980-х гг. не стало преодоление товарного дефицита, факты усиления которого подтверждаются результатами большинства исторических исследований? На наш взгляд, это в первую очередь объясняется спецификой культурологического феномена моды, заключающейся в эстетизированой демонстрации «идеального» и слабой чувствительности к острым и кризисным явлениям небезупречной реальности. В мире моды, по сути, не может быть ни материальных, ни иных трудностей и кризисов, которые необходимо преодолевать. Показательным в этой связи является тот факт, что даже в первом послевоенном выпуске «Журнала мод» (июнь 1945 г.) нет ни визуальных образов, отсылающих к военной повседневности, ни «инструкций» по преодолению трудностей вещевого обеспечения. В 1970–1980-е гг. в рамках информационного тренда, возникшего в связи с товарным дефицитом, на страницы модных изданий не проникают практики перешивок и переделок, а рукоделие преподносится в максимально возвышенном, эстетизированном контексте – не как вынужденная практика, а как уникальная творческая деятельность. Во-вторых, причиной того, что стратегии преодоления дефицита не укореняются в журнальном модном дискурсе в качестве доминантных, несомненно, является проникновение западных стандартов потребления «на широкую ногу», чуждого вещевому рационализму. В-третьих, эта ситуация была обусловлена стремлением советского населения к максимализации потребления и новизне. Суммарно указанные факторы по силе влияния превосходили рациональные веяния советской дефицитной реальности, поэтому модный дискурс, даже несмотря на трудности товарного снабжения не «скатывался» к пропаганде ремонта и перешивок одежды, полностью изгоняя во второй половине 1980-х гг. практики самодельного изготовления вещей со страниц журналов мод.
Таким образом, советский дискурс журналов мод 1970-х–1980-х гг. представлял собой информационное пространство, сочетающее в себе элементы, различные по своим проявлениям и происхождению и направленные на формирование противоположных, а порой и взаимоисключающих потребительских стратегий и стереотипов. Среди таких составляющих были советские идеологические конструкты, проекции фактических реалий (товарного дефицита и растущего потребления), западных потребительских стандартов . Соотношение означенных составляющих в контексте советского модного дискурса не было равнозначным и статичным. На протяжении 1980-х гг. воздействие идеологемы «социалистический образ жизни» на специфику отечественного модного дискурса постепенно уменьшается, уступая место более актуальным потребительским стремлениям граждан к новизне и разнообразию. Это обусловлено как общим снижением в 1980-е гг. идеологического влияния на все сферы советской повседневности, так и нарастанием в советском обществе психологического стремления к максимализации и легкости потребления, повышением уровня благосостояния, проникновением зарубежных потребительских стандартов . Суммарно данные факторы сформировали противоречивое информационное пространство советской моды 1970-х–1980-х гг., не только представляющее собой поле пропаганды эталонных образов, но и являющееся слепком с парадоксальной реальности эпохи позднего СССР.
Список литературы Советский модный дискурс второй половины 1970-х-1980-х годов: эволюция транслируемых потребительских стратегий
- Blumer H. Fashion: from Class Differentiation to Collective Selection//The Sociological Quarterly. 1969. N3.
- Golubev А., Smolyak О. Making Selves through Making Things: Soviet Do-It-Yourself Culture and Practices of Late Soviet Subjectivation//Сahiers du monde russe. 2013. 54/3-4. Juillet -decembre.
- Widdis E. «Sew Yourself Soviet: The Pleasures of Textile in the Machine Age»//Petrified Utopia: Happiness Soviet Style/eds. B., M. and E. Dobrenko. London, 2009.
- Аршавская Н. В моде драпировка//Модели сезона. 1988. № 1.
- Барт Р. Система моды: статьи по семиотике культуры. М., 2003.
- Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 2006.
- В народных традициях//Журнал мод. 1977. № 2.
- Вайнштейн О. Моделируя советских женщин: портниха как культурный герой эпохи социализма//Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3.
- Веселые полоски//Силуэт. 1970. № 1.
- Возьмитель А.А. Нормы и ценности советского образа жизни//Советский образ жизни: Состояние, мнения и оценки советских людей. М., 1984.
- Высоцка-Темпска Л. Контакты//Журнал мод. 1988. № 1.
- Герасимова Е., Чуйкина С. Общество ремонта//Неприкосновенный запас. 2004. № 2.
- Гурова О.Ю. От бытового аскетизма к культу вещей: идеология потребления в советском обществе//Люди и вещи в советской и постсоветской культуре. Новосибирск, 2005.
- Гурова О.Ю. Продолжительность жизни вещей в советском обществе: заметки по социологии нижнего белья//Неприкосновенный запас. 2004. № 2.
- Деготь Е. От товара к товарищу. К эстетике нерыночного предмета//Логос, 2000. № 5/6.
- Заико Т. Любим вязать//Журнал мод. 1988. № 1.
- Захарова Л. Советская мода 1950-1960-х гг.: политика, экономика, повседневность//Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3.
- Кантор В.И. Культура в быту. М., 1963.
- Кассиль Л. Девушка со вкусом//Работница. 1958. № 3.
- Комаров В.Е., Чернявский У.Г. Доходы и потребление населения СССР. М., 1973.
- Комплекты молодым//Модели сезона. 1979. № 2.
- Куницына С. На пике моды//Журнал мод. 1988. № 1.
- Левыкин И.Т., Покровская М.В. Проблемы уровня и качества жизни советских людей//Советский образ жизни: Состояние, мнения и оценки советских людей. М., 1984.
- Легко, тепло, удобно//Журнал мод. 1986. № 4.
- Мода//Журнал мод. 1967. № 2.
- Мода благоволит полным//Журнал мод. 1977. № 2.
- Мода в ансамбле//Модели сезона. 1988. № 1.
- Назвать себя художником//Журнал мод. 1977. № 1.
- Народное благосостояние: тенденции и перспективы/под ред. Н.М. Римашевской, Л.А. Оникова. М., 1991.
- Общее и особенное в образе жизни социальных групп советского общества/отв. ред. И.Т.Левыкин. М., 1987.
- Орлова Г.А. Апология странной вещи: «маленькие хитрости» советского человека//Неприкосновенный запас. 2004. № 2.
- Осень в городе//Модели сезона. 1978. № 1.
- Папушина Ю.О. Социологический анализ потребления в работах Ж. Бодрийяра: автореф. дис. канд. социол. наук. М., 2009.
- Потребности, доходы, потребление: экономический словарь-справочник. М., 1988.
- Ракитский Б. Деформации и перерождения социализма//Общественные науки. 1989. № 3.
- Семья и народное благосостояние в социалистическом обществе/под ред. Н.М. Римашевской и С.И. Карапетяна. М., 1985.
- Смоляк О.А. Хранить нельзя выкинуть: культура переделывания вещей в позднем Советском Союзе//Вестник Пермского государственного института искусства и культуры. 2011. Т. 10.
- Соловьева Е. Советское моделирование и промышленность -для народа//Журнал мод. 1977. № 3.
- Социалистический образ жизни. М., 1984.
- Социальная сфера в условиях перестройки (советские исследования 1989 г.): научно-аналитический обзор. М., 1991.
- Спортивный стиль моден//Модели сезона. 1979. № 2.
- Тихомирова А. В 280 километрах от Москвы: особенности моды и практик потребления одежды в советской провинции (Ярославль, 1960 -1980-е гг.)//Неприкосновенный запас. 2004. № 37 (5).
- Туровцева В. Деловой женщине//Журнал мод. 1977. № 4.
- Форма -новая и классическая//Модели сезона. 1979. № 2.
- Щипакина А. Мода в СССР: Советский Кузнецкий, 14. М., 2009.
- Эскиз -ткань -модель//Журнал мод. 1977. № 1.
- Юные работницы строят новый быт//Работница. 1924. № 2.
- Юшкова А. «Я одевал Брежнева»: главы из книги об Александре Игманде//Теория моды. Одежда. Тело. Культура. 2007. № 3.