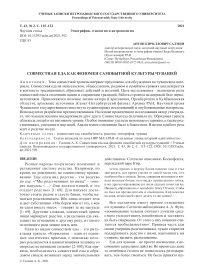Совместная еда как феномен самобытной культуры чувашей
Автор: Салмин Антон Кириллович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Этнография, этнология и антропология
Статья в выпуске: 2 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Тема совместной трапезы впервые предложена для обсуждения на чувашском материале. Совместная еда на межсельском, общесельском, родовом и семейном уровнях анализируется в контексте традиционных обрядовых действий и молений. Цель исследования - выявление роли совместной еды в сплочении нации и сохранении традиций. Работа строится на широкой базе первоисточников. Привлекаются полевые записи автора (Саратовская, Оренбургская и Куйбышевская области), архивные источники (Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, Научный архив Чувашского государственного института гуманитарных исследований) и опубликованные материалы. Используются разработки предшественников. На основе проведенного исследования автор утверждает, что чуваши исконно поддерживали друг друга. Совместная еда сплачивала их. Обрядовая трапеза сближала людей и на интимном уровне. Особое внимание уделяли немощным старикам, а также родственникам, ушедшим в мир иной. Аналогичное отношение было к божествам. В целом в работе речь идет о родстве по еде.
Совместная еда, самобытность, родство, этнография, чуваши
Короткий адрес: https://sciup.org/147226638
IDR: 147226638 | УДК: 93 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.592
Текст научной статьи Совместная еда как феномен самобытной культуры чувашей
Разные народы по-разному понимают и разъясняют систему родства. Например, по крови, по рождению, по совместному проживанию. Еще один вид родства – это родство по еде. «“Мы родственники по пище” – говорят папуасы <…> Они делятся пищей, и это создает родство» [1: 68]. Для папуаса достаточно стоять рядом и съесть банан, чтобы назваться родственником. Ибо пища создает тела и дает субстанцию. «Мы берем жен от тех, с кем не едим вместе мясо», – говорят те же папуасы [1: 69]. Другими словами, совместный прием пищи маркирует родство, а раздельная еда указывает на отношение к другому роду, из такого экзогамного рода можно взять жен.
Один из видов совместной еды – это ритуальная трапеза. «Кормление – один из основных магических приемов, с помощью которых реализуются взаимоотношения человека со сверхъестественными силами» [2: 601]. Как правило, необходимость совместной еды в обрядовом смысле возникает перед значительными
действиями. Согласно описанию Ксенофонта, персидский царь Кир,
«стоя, принес в жертву богам начатки еды и стал завтракать, все время уделяя от своей части тем, кто особенно был голоден. Затем, совершив возлияние и вознеся моления богам, он отведал принесенного питья, и все другие окружавшие его люди сделали точно так же. Наконец, обратившись с мольбой к Зевсу Отчему, чтобы он был им предводителем и союзником, Кир вскочил на коня, велев своей свите делать то же самое»1.
Все сказанное имеет прямое отношение и к чувашам. Согласно наблюдениям А. А. Фукс, «поминовение чуваши считают лучшим средством умилостивить покойников и заставить их быть смирными. От этого у них поминки считаются необходимостию»2. Принеся часть еды своим умершим родственникам, чуваш старается поддерживать родство с ними, напоминать им о связях, вызвать расположение.
Еда для чуваша – не просто насыщение, а несомненно сакральное действо. Во время еды даже за семейным столом не позволялось разговаривать, тем более смеяться. Не было принято шу- меть, выражать недовольство, что его обделили, жадничать3.
Не есть вместе, отказать в совместной еде, предпринимать меры для устранения от совместной еды – значит чуждаться. Для айна не принимать участие в совместном поедании совместно пойманного медведя равносильно отлучению от общины4. Тенденция отчуждения соблюдалась чувашами и по отношению к снохе в семье. Сноха как новый член семьи в течение года или до рождения ребенка не могла считаться полноправным ее членом и питалась не за общим столом, а одна в зашторенном углу у печи. Желание разлучить любящих парня и девушку зафиксировано в заговорах. В частности, в них говорится: «Когда дикая лесная лошадь и домашняя лошадь смогут встать рядом и есть из одного стойла – пусть только тогда они будут вместе»5.
Конечно, самобытность чувашей заявляет о себе не только в пищевом выражении, но и красочной вышивкой одежды, богатой мифологией, мудрой народной педагогикой и медициной. Вместе с тем,
«акцентируя национальные чувства, религиозные ценности, люди выступают за целостность своего сознания и поведения, прочность своих связей с традиционной общностью»6.
Потеря древних ценностей, особенно традиционных обрядов и верований, приводит к потере идентичности (то есть самобытности). Например, волжские татары вместе с принятием ислама чаще стали использовать по отношению к себе термин «мусульманин».
«Эта опасная для будущности этноса тенденция была замечена и верно оценена первым среди татар ученым историком Шигабутдином Марджани. Он поставил перед своим сородичем вопрос ребром: “Кто ты – татарин или мусульманин?” И ответил на него четко и недвусмысленно: “Ты – татарин”. Он выступил против подмены этнонима конфессионализмом, заявив: “Между наименованиями “татарин” и “мусульманин” такая же большая разница, как расстояние между Нилом и Ефратом”» [6: 82–83].
Действительно, нет ничего зазорного в том, что замечательные татары Галимджан Ибрагимов, Хади Такташ, Муса Джалиль и многие другие были не мусульманами, а явными атеистами. Все это нисколько не умаляет их вклад в богатые традиции народа. Иначе говоря, принятие чужой веры наносит большой урон традиционным ценностям (в том числе родному языку), перенятым от исторических предков. Отсюда – беспокойство, осознание того, что
«чувашский стереотип, основанный на учении старейшин (ваттисем калани) не в малой степени был гаран- том сохранения народа и его самобытной культуры <…> Необходимо найти такой вариант симбиоза национальной и общечеловеческой культур, чувашской и общеевропейской ментальностей, при котором взаимовлияние окажется благотворным для обеих сторон. Наблюдения за ментальностью чувашского народа подсказывают, что в новом поколении самобытные положительные качества могут быть скоро и полностью поглощены глобализмом, в таком случае большую часть манкуртной чувашской молодежи постигнет горькая участь травы “перекати-поле”» [5: 47, 90].
В работе анализируются инварианты традиционных обрядов чувашей. Традиционные праздники, обряды и верования классифицируются по составу участников на общесельские праздники и обряды, домашние праздники и обряды, индивидуальные обряды. Объектами изучения также являются божества и духи. Для анализа отобраны праздники, обряды и верования с обязательным «пищевым» компонентом. Хронологический диапазон первоисточников – с XVIII по XX век. При этом приходится хотя бы кратко (для получения общей картины) говорить о композиции анализируемых традиционных обрядов и верований.
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
Учук (поле + жертвоприношение). Обряд проводится всей деревней или несколькими населенными пунктами сообща. В источниках говорится об объединении 7 и 9 деревень. Если Учук совершается несколькими деревнями совместно, то после каждая деревня проводит его отдельно по той же схеме. Цель этого масштабного обряда – обращение с просьбой к божеству Турă дать обильный урожай хлеба, приплод скота и благополучие в семьях. Для проведения обряда выбирается локус за деревней у воды (речки, оврага с водой или ключом). Центром служит какое-либо дерево (лучше всего – дуб). У дерева устраивают временный стол. На столе – хлеб, на хлебе – соль в солонке. На Учук сначала приходят по одному человеку от каждого дома в деревне. Заранее сообща готовят пиво в большом котле. Обрядовой пищей на Учуке служат мясо жертвенных баранов, каша из разных круп, пресные лепешки. Варианты: в один год режут корову, в другой – быка и две овцы (барана). Обязательна домашняя птица. Сбором у народа круп, соли, масла и яиц занимаются взрослые, им помогают дети. Перед закланием животных обливают водой: если встряхнутся – то угодны божествам, если не встряхнутся – то таких животных отводят обратно домой. Обливание проводят от головы к хвосту. Кожи жертвенных животных (быка, коровы, овец) вешают тут же на дерево, а в позд- них обрядах сжигали или продавали. В одном большом котле варят кашу, в другом – мясо. В кашу кладут достаточно масла и молока. Чаще всего ее варят на бульоне. В каше же варятся яйца вкрутую. От каждого дома приносят лепешки, которые складывают в кучу. Очевидцы сравнивают эту кучу с копной сена. Принесенные с собой чашки расставляют на лужайке в два ряда. Приносят также ложки. Во время приготовления обрядовой пищи проводится Акатуй со всевозможными состязаниями (игры, борьба, прыжки). К этому времени приходят повзрослевшие девушки и парни в нарядной одежде, готовые выйти на хоровод Вăйă, который начинается вечером.
Моление проводят сельчане старшего возраста, обычно – старик, а в последние годы – пожилая женщина. Молельщик держит шапку под левой мышкой. При молении обращаются в сторону востока, а смотрят на растущее дерево, при этом молельщик в правой руке держит кусочки жертвенной пищи. Он просит божество Турă отвести от народа все беды. Обращались с аналогичными просьбами и к другим божествам – вестнику божества Турă Пӳлĕхҫĕ , покровителю домашних животных Пихампару , родителю хлеба Тыр-пул никĕсĕ и т. д.
Перед тем как приступить к совместной еде, в деревню отправляют глашатаев созывать сельчан. Рассаживаются в ряд. В зависимости от количества чашек и числа участников определяют, сколько человек будет есть из одной чашки. Например, в источниках говорится о том, что из одной миски ели четыре человека. Обычно стараются сесть у одной тарелки члены одной семьи. Раздачей еды занимаются два пожилых человека. Один раздает кашу, другой – мясо. Кашу из котла черпают с помощью ковша с длинной ручкой. Каша особенно нравится детям, им достается и по яйцу.
Завершив совместную еду, остатки пищи участники берут домой. Принесенная еда употребляется домашними как святыня. Прежде всего угощают тех стариков и старух, которые не смогли прийти на моление. На такие после-молебные домашние трапезы приглашают самых близких родственников7 [4].
Ҫумăр чӳк (дождь + жертвоприношение) – жертвоприношение с целью вызывания (инициирования) дождя. Проводят, когда долго стоит сухая погода, мешающая росту посева. Участниками являются сельчане. Если деревня большая, то ҫумăр чӳк может организовать каждая улица отдельно. Проводится через одну-две недели после ҫимĕк – «семика». Местом для обрядовых действий служит берег реки или озера. Если их нет, то загодя делают запруду в овраге. Такое место должно находиться на восточной от деревни стороне. Вокруг водоема втыкают спаржу, называемую чувашами ҫумăр курăкĕ «трава дождевая» (то есть трава, способная вызвать/ини-циировать дождь). 10–15 мальчиков снабжаются котомками, ведрами и кадками, ходят по улице от дома к дому и собирают продукты. Кто-то дает яйца, кто-то – дрова, другие – молоко, масло, соль, крупу (чаще всего пшено) или муку. На народные деньги могли купить гуся. Все собранное отдают какой-либо женщине для приготовления еды. Ей помогают еще две-три женщины. Варят кашу на молоке и пекут лепешки. В большинстве случаев лепешки или хлеб приносят с собой. К моменту приготовления еды подходят дети со своими чашками и ложками. Старушка становится лицом на восток и начинает моление у котла с кашей, находящегося в это время на земле. Под левой мышкой она держит мужскую шапку. Присутствующие мужчины также держат шапки под левой мышкой. Обращаются к Турă. Просят дать дождя, уберечь от несчастий, града, червей, сильного ветра. После моления участники обряда совершают земной поклон. Дети наблюдают за происходящим на некотором расстоянии. Сначала старый человек пробует пресную лепешку юсман, кашу с маслом и пиво. Детям отламывают кусочки лепешек, накладывают кашу. Дуть на горячую кашу запрещается, за этим следят пожилые участники. Завершив совместную трапезу, молодежь начинает обливать водой участников церемонии. Многие сами входят в воду и плескаются. Так участники пытаются вызвать дождь на засохшую землю. В некоторых случаях люди шли на кладбище и просили духов предков не разгонять дождевые облака8.
Аналогичные обряды проводили и казанские татары9.
Сĕрен – общесельский очистительный обряд. Само слово означает «изгнать». Время проведения – после калăм и до мункуна. В народном календаре это рубеж старого и нового годов. Обходчики заходили в каждый дом, имеющимися в руках прутьями хлестали дом, решетки, ворота, изгоняя таким образом злых духов. Прутьями ударяли всех членов семьи. В каждом доме им давали яйца, шăрттан (рубец, начиненный мясом и зажаренный в печи), крупу, орехи, пироги. Те из участников, которые шумели трещотками, собирали или сырок, или масло. Угощали их и напитками. Они шумели, плясали, пели. Собранные продукты относили в один из домов и варили в котле. Предводитель совершал моление. Обращаясь к соответствующему божеству, он просил дать возможность дожить до следующего сĕреня. За деревней яйца раздавали каждому участнику в руки. Обычно доставалось по два яйца. Если пришедших на моление было мало, то им доставалось и до десяти яиц. Совместную обрядовую еду дети и молодежь совершали на лужайке10.
Мункун – основной родовой праздник, посвященный духам предков. Приходится на начало нового года по астрономическому календарю. Термин буквально означает «большой день». Основные действия происходят в коренном доме рода, то есть в том доме, откуда происходили и отделялись мужчины. Приходят также кровные родственники, живущие в других деревнях, и их жены. На столе в эти дни обязательно должны быть яйца, а также круглый хлеб, пиво, курятина, блины. На стене у двери зажигают свечи по количеству поминаемых родственников. Проводится ряд ритуальных действий (бой яиц, разделение дужки курятины). Завершив церемонию в родовом доме, участники перемещались в другой дом, входящий в круг родства. Заканчивали обход к утру11.
Праздник в разных формах бытовал во всех традиционных обществах. Например, на Тробрианских островах в этот день каждого приходящего угощали пищей, полежавшей на кровати примерно час12.
Кĕр сăри (букв. «осеннее пиво») – осенний родовой обряд, посвященный духам предков. Приглашают на него кровных родственников по мужской линии, включая и единоутробных. Начинается в четверг после обеда. Участники собираются в коренном доме. Считается, что умершие родственники приходят в свои дома после полуночи. Их можно даже увидеть, если посмотреть в тĕнĕ (дымовое отверстие в стене в избах по-черному) через хомут. Согласно верованиям, все пришедшие с того света гости сидят, свесив головы, так как шейные жилки у них во время смерти подрезаются. Но смотреть на них было очень опасно, ибо если духи умерших заметят наблюдающего за ними, то они убивают такого смельчака. Из еды в этот день на столе могут быть мясо (баранина, говядина, курятина, иногда конина), пиво, каша, блины из муки старого урожая. Еду для умерших отделяют в чашку на коннике. Умершим детям также отливают воду, чтобы их не одолевала жажда. Стол переставляют ближе к двери. Поминают всех, включая безродных. Согласно верованиям чувашей, если умершим не отделять пищу, то они на том свете будут голодными. После молитвенного обращения к перешедшим в иной мир родствен- никам участники приступают к совместной еде. Жена хозяина начинает подносить угощение со стороны печного угла, а сам хозяин – со стороны двери. Отделенную для умерших еду выносят во двор. Если ее поедают собаки, то угощение принято, если кошки или свиньи – то нет. Затем обходят, соблюдая церемонию в сокращенном виде, другие дома родственного круга. К утру обход завершается13.
Чӳклеме (от слова чӳк «жертвоприношение») – родовой праздник по случаю начала употребления нового урожая. Другое буквальное название обряда – киветни «старение нового хлеба». Участниками становятся только кровные родственники по мужской линии, а также их жены и дети. Исключение составляют соседи, которые в большинстве случаев оказываются родственниками. Из еды на столе бывают каравай, пиво, блины, мед, мясо, пресная лепешка юсман . Сначала за стол садятся старики. Хозяйка при необходимости накладывает в чашки кашу, подливает масло. Затем к столу присоединяются мужчины, за ними женщины, потом дети. Приходящих в это время чужих людей (даже если они близкие знакомые) за стол не приглашают. В молитвенной речи благодарят Турă за урожай. Желают, чтобы корень у зерновых был как у камыша, а колос – как у гороха, чтобы в клети всегда было семь видов зерна, а хлеба хватало и себе, и просителям. Во время моления участники стоят, обращаются на восток, держат в руках кусочки хлеба свежего урожая. После совместной еды в коренном доме основной состав участников идет в другой родственный дом. Так обходят все семьи, входящие в родственный круг14.
Ака пăтти (сев + каша) – межсемейные обрядовые действа в связи с выходом на сев. Сев проводится двумя-тремя семьями совместно. Таким образом крестьяне объединяли ресурсы в артели: у кого есть лошадь, у кого – хорошие сбруи, у кого – борона надежная. К тому же не во всех семьях есть крепкие мужчины. В честь праздника пекут каравай из белой муки. Это жертвенный хлеб с «пупком» и «носами». «Носы» – выпуклости по краям, образованные от прощипывания теста, а «пупком» служит яйцо, выступающее в середине хлеба. Кроме того, варят кашу полбенную или пшенную, яйца по числу участников сева, колобок йăва и пресную небольшую лепешку юсман, а также пиво. Стол переставляют в дверную часть. На него устанавливают котел с кашей. Моление проводит старый член семьи. После завершения совместной еды всем раздают по яйцу. Их зарывают на загоне с просьбой к божеству Ҫĕр йыш (букв. «боже- ство семейства земли») вырастить хороший урожай. В засеянное поле также зарывают «пупки» и «носы» от хлеба. Лошади, участвующей на севе, дают хлеб. Во дворе из пудовки сыплют зерно домашним животным и птицам. Вечером после завершения сева дома пьют пиво15.
Ана пай (загон + доля) – семейный обряд по случаю завершения жатвы. Пищей и жертвенным даром в этот день бывают непочатый хлеб и непочатый сырок чăкăт . По завершении жатвы в конце загона оставляют пучок несжатого хлеба. Самый старый член семьи опускается на колени у этого пучка, сгибает его к земле и зарывает, сделав ямочку кончиком серпа. Туда же кладет краюшку хлеба и сырок. Этот дар земле называют «счастьем загона» или «хранителем загона». Текст моления заключает мысль-пожелание получать и в дальнейшем добрый урожай. Обращаются к божеству Ана кĕтӳҫĕ (букв. «пастух загона») с просьбой уберечь от сильных ветров, бурь и града. Затем все садятся на снопы у этого пучка хлеба и совершают совместную трапезу16.
У народов, занимающихся традиционным земледелием, данный обряд бытовал в разных вариантах. В Ирландии, например, древняя жатвенная церемония называлась «срезание калахта».
«Она заключается в том, что в углу последнего поля последний пучок колосьев оставляют несрезанным. Его заплетают, он и называется калахт. Жнецы вооружаются секачами (серпами) и, стоя на разумном расстоянии, каждый по очереди делает бросок, чтобы срезать его. Затем удачливый претендент надевает его на шею жены хозяина поля… и торжественно ведет ее в дом, требуя первой чарки. После этого пучок вешают в центре кухни, где приготовлено достаточное количество горячительного угощения для всех, за этим следует чаепитие и общее празднество»17.
Туй – свадьба. Вся свадьба насыщена семантикой взаимного угощения и совместной еды. Любопытно, что в словаре П. С. Палласа зафиксировано значение свадьбы как яшкасини (букв. «есть суп»). А в словаре В. Г. Егорова – как «насыщаться, наедаться досыта»18. Начинается с хождения на кладбище на могилы родственников. Им отделяют жертвенную пищу. Просят позволить провести свадьбу без скандалов и в традиционной манере. Во время обхода родственников жениха младший дружка в каждом доме берет со стола понемногу хлеба, мяса, ложку и кладет в свою сумку. А в доме отца невесты он выкладывает все это на стол и приглашает всех угоститься. Так происходит угощение родственников невесты едой, собранной со столов рода жениха. Старший дружка, явившись во главе мужской свадьбы к свату в дом, прямо заявляет, что пришли, чтобы «попить-поесть». Во дворе свекра в первую очередь проводится символическое кормление молодой пары из одной ложки19. В доме отца жениха происходит коллективное символическое кормление жениха и невесты. Совершив коленопреклонение, молодые встают у печи лицом к участникам свадьбы. Сноха покрывает головы молодоженов кошмой. Присутствующие в доме черпают со стола по ложке супа и бросают кто на кошму, кто прямо в лицо жениху и невесте. Один мальчик начинает пританцовывать перед молодой, держа в руке трехконечную деревянную вилку. В это время за столом сидит старик-шутник. Мальчик подходит к нему, а тот накалывает на вилку три клецки-салмы и шепчет в ухо похабные слова. После этого мальчик подходит к молодым и тычет невесте в губы этими клецками, приговаривая: «Хоть ты и хочешь, но я не дам». Затем срывает с молодых кошму и бежит в клеть, где в муке прячет эти клецки20. Черемисы вводили невесту в молельный дом кудо и сажали рядом с женихом. Угощали их лепешкой с заостренной палочки. «Жених и невеста должны были по разу откусить эту лепешку – и венчание заканчива-лось»21. В Уганде «жених набирал в рот молоко и обрызгивал им невесту, затем она набирала в рот молоко и обрызгивала жениха»22. Исследователь славянской свадебной культуры А. Л. Топорков считает, что «совместная еда молодых… знаменует собой их вступление в интимную связь» [7: 177]. В клети, куда закрывают молодых на брачную ночь, молодая кормит мужа. На следующее утро, если находят молодую нецеломудренной,
«то дружка жениха разносит по кругу пиво в кружке с дырочками на дне, через которую пиво вытекает. Увидев это, все смеются, а невеста покрывается краской»23.

Совместная еда на свадьбе. Моргаушский район Чувашской Республики. 2004 год. Фото М. А. Костарева
Sharing a meal at a wedding. Morgaushskiy district, the Chuvash Republic. 2004. Photo by M. A. Kostarev
Утром молодая в сопровождении идет к роднику и приносит два ведра воды. На этой воде варит суп с клецками салма . Этим супом она угощает всех, кто находится в доме. Так она становится хозяйкой у печи, заменив на этом месте свекровь24. Однако молодая в течение года не могла садиться вместе со всеми за общий стол. Она как «чужачка» ела в печном углу, а сидела спиной к семье мужа25.
Юпа (букв. «столб») – обрядовые действа по случаю окончательных проводов души умершего родственника. Проводится через 5 или 7 недель после смерти. Иногда через 40 дней. Но чаще всего в месяц юпа (октябрь – ноябрь). Участники – семья и родственники. В этот день на могилу ставят антропоморфный столб юпа . Перед тем как резать скот, один из членов семьи выходит на околицу и, смотря в сторону кладбища, зовет по имени: «Эй, (имярек), тебе даем жеребенка (если расходуют жеребенка), приди и возьми!» Затем режут жеребенка. Вместо жеребенка могут резать лошадь, корову, барана, овцу, гуся, утку или курицу. Все зависит от того, что завещал сам покойный и насколько состоятельна семья. Когда все готово, едут на кладбище за душой умершего родственника. Лошадь, сбруи и телегу наряжают как на свадьбу. На дугу вешают два колокольчика. Едут 7–8 человек, с собой берут ведро пива и немного вина. В других вариантах этого обряда приглашать умершего на кладбище едет мальчик-всадник. На кладбище зовут умершего присоединиться к совместной еде и начинают угощаться. По возвращении начинаются поминки. На середине стола размещают каравай, на него – сырок, а на сырок ставят и зажигают свечу. Эта свеча горит всю ночь, наращивают ее снизу. Из еды на столе также бывает пиво, домашнее вино или покупная водка, блины, лепешки, мясо, яйца. Родственники приносят с собой водку, мед, пиво, блины, курятину, а также по одной свече. Поминаемому еду отделяют в отдельную чашку. Антропоморфный столб, символизирующий умершего, в это время покоится на кровати. Затем совершается совместная трапеза. Тех, кто не является членом семьи и рода, к ней не допускают. Утром чашку еды для умершего выносят на улицу и пляшут вокруг нее под музыку волынки шăпăр. Обычно чашку устанавливают на ступу. В конце концов ее опрокидывают, будто бы нечаянно, и уходят в дом. Оставшиеся на улице остатки еды съедают собаки. Потом вывозят столб на кладбище, устанавливают. Еще раз совершают обильную совместную трапезу26.
Хĕртсурт – божество, хранитель домашнего очага. Является в образе женщины в чувашском наряде. Полагали, что она – хозяйка дома. Раз в год специально для Хĕртсурта варили пшенку, заправив маслом способом «глазок». Обращались к ней с просьбой хранить и беречь семью, дом. Вечером кашу ставили на шесток печи, чтобы божество попробовало. В некоторых домах кашу подавали на печку, подстелив под чашку подушку. На чашку клали ложку, сверху покрывали лепешкой. В этот вечер домашние не засиживались долго, чтобы не помешать Хĕртсурту полакомиться. Если в доме были кошки, то их на эту ночь закрывали в чулане. Утром кашу съедали всей семьей. Чужих людей этой кашей не угощали. Чтобы Хĕртсурт не ушел из дома, каждый раз, возвращаясь из гостей, домочадцы клали на печку гостинец. Пока божеству не дали кусочек еды, дети не могли просить. Принесенными гостинцами могли быть палишки ҫӳхӳ , сырок чăкăт , пирог, блины27.
Аналогичное божество имелось в домах и других народов. Например, у осетин – Бынаты хицау , которому в определенный день приносили в жертву баранину или мясо домашней птицы. «Мясо жертвенного животного полагалось съедать только членам семьи»28.
Верно утверждение, что «для идентичности мифология показательнее любых экономических и демографических расчетов – если есть своя мифология, есть и самобытность» [3: 49].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы проанализировали основные «пищевые» традиционные обряды и верования чувашского народа. Если сгруппировать их, то получится такая картина: межсельский обряд Учук , общесельские ( ҫумăр чӳк, сĕрен ), родовые ( мункун, кĕр сăри, чӳклеме ), семейные ( ака пăтти, туй, юпа ) обряды, а также обрядовые моления, адресованные божеству Хĕртсурт. Все эти примеры показывают, что люди держались друг за друга, что называется, и в радости, и в горе.
Совместная еда сплачивает людей на всех уровнях, будь то население нескольких деревень или род. Как правило, продукты для такого действа собираются со всех участников. В молениях просьбы доводятся до адресатов (божеств, духов предков). Примечательно: перед тем как приступить к совместной еде, отправляют глашатаев созывать участников церемонии. В обрядовые действа обязательно включают всех: собирают у них продукты, заботятся о сельчанах (например, в сĕрен изгоняют злых духов не только из строений, но из людей), созывают на место обрядовых церемоний нужных адресатов, выражают благодарность за содействие (оставляют долю на загоне, на шише овина и т. д.). Совместный труд (например, работа артелью на пашне или севе) и совместный прием пищи символизируют единство людей. Во время совместной еды участники угощают друг друга и проводят игры, таким образом они становятся еще ближе. Это касается не только межсельских, общесельских и родовых обрядов, но и семейных. На них закрепляется ценность не только общества, но и индивида (например, в виде награды победителю в борьбе или проведения семейных обрядов от имени каждого члена семьи). Более того, совместная еда сближает и на интимном уровне (первая совместная еда молодых на свадьбе практически равна началу их интимной жизни). Чуваши не выключали из совместной еды и умерших соплеменников. Они заботились о немощных стариках (с общесельских обрядов приносили еду и угощали). В то же время не допускались к совместной еде чужаки. В целом наблюдается укрепление родства посредством совместной еды (родства по пище).
Уход в прошлое по разным причинам бытовавших в повседневной жизни «дедовских» праздников, обрядов и верований, составляющих фундаментальную основу традиционной культуры, приводит к потере самобытности чувашского народа. Задача общества, рода и семьи – сохранить наиболее ценные традиции, по крайней мере, в виде передачи знаний о них растущему поколению. Эта задача актуальна в наши дни, ибо многие родственники живут разрозненно на больших расстояниях друг от друга. Складываются иные формы повседневного общения и поддержания родственных отношений. В том числе формируются иные варианты «родства по еде». В них содержатся не только новые, но и вполне традиционные ценности.
Список литературы Совместная еда как феномен самобытной культуры чувашей
- Бутинов Н. А. К вопросу о концепции родства // Советская этнография. 1990. № 3. С. 65-75.
- Виноградова Л. Н., Толстая С. М. Кормление // Славянские древности: Этнолингвистический словарь. Т. 2. М.: Междунар. отношения, 1999. С. 601-606.
- Головнёв А. В. Этничность и идентичность на Урале // Уральский исторический вестник. 2011. № 2. С. 40-49.
- Данилко Е. С., Садиков Р. Р. Видеосъемка полевого моления некрещеных чувашей в Башкирии // VI Конгресс этнографов и антропологов России: Тез. докл. СПб.: МАЭ РАН, 2005. С. 382.
- Никитина Э. В. Чувашский этноменталитет: сущность и особенности. Чебоксары: Новое время, 2005. 148 с.
- Рашитов Ф. А. О соотношении этничности и религиозности в идентичности татар // Этнорелигиозная идентичность татарского народа в условиях глобализации. Казань: АН РТ, 2019. С. 78-90.
- Топорков А. Л. Еда // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. Т. 2. М.: Эллис Лак, 1995. С. 176-178.