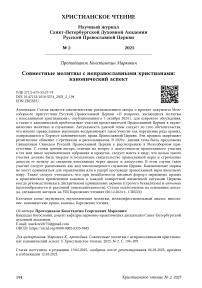Совместные молитвы с неправославными христианами: канонический аспект
Автор: Протодиакон Константин Маркович
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Церковное право. Материалы VIII Барсовских чтений
Статья в выпуске: 2 (113), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья является аналитическим размышлением автора о проекте документа Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви «О вопросах, касающихся молитвы с инославными христианами», опубликованного 1 октября 2024 г. для широкого обсуждения, а также о канонической проблематике участия представителей Православной Церкви в экуменических молитвах и служениях. Актуальность данной темы следует из того обстоятельства, что многие православные верующие воспринимают такое участие как нарушение ряда правил, содержащихся в Корпусе канонического права Православной Церкви. Эти правила запрещают религиозное общение с еретиками и раскольниками. В 2020 г. данная тема была предложена Священным Синодом Русской Православной Церкви к рассмотрению в Межсоборном присутствии. С точки зрения автора, отвечая на вопрос о допустимости православного участия в тех или иных экуменических собраниях и проектах, следует иметь в виду, что целью такого участия должно быть твердое и неуклонное свидетельство православной веры и стремление донести ее истину до сведения инославных через диалог и дискуссию. В этом случае такое участие следует расценивать как вид миссионерского служения Церкви. Канонические нормы не могут применяться для ограничения или в ущерб проповеди православной веры внешнему миру. Также следует учитывать, что при незыблемости писаных формул церковных правил в практическом применении канонов к каждой конкретной жизненной ситуации Церковь всегда руководствовалась дискретными принципами акривии (строгого буквализма) и икономии (целесообразности и разумной снисходительности). Статья подготовлена на основании доклада, сделанного автором на VIII Барсовских чтениях (06.12.2024 г., СПбДА).
Экуменизм, экуменические молитвы, межконфессиональный диалог, инославие, канонические право, каноны, Барсовские чтения
Короткий адрес: https://sciup.org/140309610
IDR: 140309610 | УДК: 271.2-675-53:27-74 | DOI: 10.47132/1814-5574_2025_2_194
Текст научной статьи Совместные молитвы с неправославными христианами: канонический аспект
12.03.2025.
-
I.
В 2020 г. Священный Синод Русской Православной Церкви составил обширный список тем и определил их к рассмотрению комиссиями Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В этом списке присутствует тема «О совместных молитвах с неправославными» (Журналы, 2020, 2). 1 октября 2024 г. был опубликован проект документа Межсоборного присутствия «О вопросах, касающихся молитвы с инославными христианами» для его обсуждения в церковном сообществе. Проект краток по своему объему и не содержит концептуального канонического анализа данного явления. Очевидно, что его составители исходили из убеждения, что современная практика совместных молитв с инославными противоречит духу и букве священных канонов, и это — аксиома, не требующая доказательств. В проекте прослеживается явное стремление к ограничению и минимизации участия православных священнослужителей и мирян в совместных молитвах с христианами иных исповеданий1.
Выражение «молитвы с неправославными» чаще всего ассоциируется с экуменическими богослужениями (молитвами). Такие «паралитургические» служения являются неотъемлемым атрибутом межхристианского экуменического движения, которое существует уже более столетия. Поэтому вопрос о допустимости участия в совместных молитвах с инославными следует рассматривать прежде всего как вопрос о допустимости участия в экуменических мероприятиях. Каждое такое собрание будет необходимо содержать общую молитву участников, продолжительную или краткую, поскольку начинать и оканчивать любое дело молитвой — это обычай всех христиан (ср. Ин 15:5).
Следует признать, что в Русской Православной Церкви существовали и существуют полярные мнения и подходы к вопросу об участии в экуменических мероприятиях — от полного одобрения до радикального неприятия. Условной точкой отсчета истории экуменизма считают Всемирную миссионерскую конференцию в Эдинбурге, состоявшуюся в 1910 г., которую «часто называют ключевым событием, вызвавшим пристальный интерес к трудностям, связанным с разобщенностью Церквей, и необходимости поиска возможностей для сотрудничества» [Fitzgerald, 2024, 148]. Хотя в Эдинбургской конференции участвовали только члены протестантских деноминаций, однако представители православных Поместных Церквей, в том числе и русские церковные деятели и богословы, деятельно участвовали уже в первоначальном этапе становления и развития экуменического движения. В 1948 г. был основан Всемирный Совет Церквей. В его создании и работе принимали активное участие выдающиеся русские богословы — прот. Георгий Флоровский, которого называют «создателем теологического базиса для участия православных в экуменическом движении» (см.: [Van der Bent, 2002, 447]), В. Н. Лосский, Н. С. Зернов, П. Н. Евдокимов и др. В работе Ассамблеи ВСЦ, проводившейся в г. Эванстон (США) в 1954 г. участвовал свт. Николай (Велимирович), епископ Охридский и Жичский, выступивший с докладом, опубликованном под названием «Конференция в Эванстоне» («Догађај у Еванстону»). В этом докладе он заявил: «Объединение всех Церквей не может быть достигнуто путем взаимных уступок, а только путем приверженности всех к единой истинной вере во всей ее полноте, как она была передана апостолами и изложена на Вселенских Соборах, то есть путем возвращения всех христиан в единую и неделимую Церковь, к которой принадлежали предки всех христиан во всем мире в первые десять веков после Христа. Это — Святая Православная Церковь» (цит. по: [Vidovic, 2014, 272]). Святитель Николай никогда не представлял официально Сербскую Православную Церковь, но принимал активное личное участие в экуменическом движении, и «также установил хорошие отношения с англиканской, Старокатолической и американской епископальной Церквами» [Дамиан Цветкович, 2023, 434].
В 1948 г. в Москве состоялось Совещание предстоятелей и представителей автокефальных Православных Церквей, принявшее резолюцию, в которой было заявлено, что «целеустремления экуменического движения... в современном нам плане, не соответствуют идеалу христианства и задачам Церкви Христовой, как их понимает Православная Церковь» (Резолюция, 1948, 189–190). Совещание постановило «сообщить „Всемирному Совету Церквей“, в ответ на полученное всеми нами приглашение к участию в Амстердамской Ассамблее в качестве членов ее, что все Православные Поместные Церкви, участники настоящего Совещания, принуждены отказаться от участия в экуменическом движении, в современном его плане» (Резолюция, 1948, 190). Однако в 1961 г. Московский Патриархат изменил свою позицию и вступил официально в ВСЦ. С того же времени развивались интенсивные двусторонние экуменические и церковно-дипломатические отношения с Римско-Католической Церковью. Вместе с тем в среде консервативной части православного духовенства и верующих в Русской Православной Церкви и иных Поместных Православных Церквах многие десятилетия существует стойкая оппозиция экуменической деятельности и, более того, неприятие любых межконфессиональных контактов. «В последнее время, например, это можно обнаружить в некоторых кругах Церкви Греции и Церкви России. Из-за этих противоречий в 1998 г. Православные Церкви Грузии и Болгарии вышли из состава Всемирного Совета Церквей. Противодействие православной экуменической деятельности выражается также в некоторых заявлениях монашеских общин на горе Афон. После встречи Константинопольского патриарха Афинагора с папой Павлом VI в 1964 г. некоторые монашествующие стали обвинять патриарха в ереси. Кроме того, с тех пор некоторые монахи выступают против диалогов с римскими католиками и протестантами» [Fitzgerald, 2024, 154]. До начала процесса воссоединения с Московским Патриархатом иерархи Русской Православной Церкви за границей отвергали экуменизм и сурово обличали иерархов Русской Православной Церкви и иных Поместных Церквей за участие в экуменических структурах и мероприятиях. Собрание епископов Зарубежного Синода, состоявшееся в 1971 г. в Монреале, объявило экуменизм «ересью, противоречащей догмату о Церкви» [Fitzgerald, 2024, 155]. Следует отметить, что иерархи РПЦЗ до 70-х гг. ХХ в. поддерживали связи с представителями инославных исповеданий. Так, например, первый глава РПЦЗ митр. Антоний (Храповицкий) принимал участие в юбилейных торжествах 1600-летия Первого Вселенского Собора в Лондоне. «Митрополит присутствовал и на богослужениях Англиканской церкви» [Кострюков, 2015, 305]2. Двумя годами ранее, в 1924 г., еп. Анастасий (Грибановский) присутствовал в соборе св. Павла в Лондоне и преподал благословение народу по просьбе декана (настоятеля) собора. Об этом факте он сам свидетельствовал в послании к русским православным людям по поводу «Обращения Патриарха Алексия к архипастырям и клиру т. н. Карловацкой ориентации» [Кострюков, 2015, 381]. Архиерейский синод РПЦЗ направил группу наблюдателей на Второй Ватиканский Собор, которую составляли епископ Женевский Антоний (Бартошевич) [Васильева, 2004, 214], архим. Амвросий (Погодин), прот. Игорь Троянов и С. В. Гротов [Кострюков, 2020, 250]. Радикальное неприятие экуменизма как ереси и любых контактов с инославием в РПЦЗ сложилось в период правления митрополитов Филарета (Вознесенского) и Виталия (Устинова).
В наши дни существует немалое количество религиозных активистов, считающих себя ревнителями «чистоты православия», которые, используя медиаресурсы и социальные сети, агрессивно навязывают взгляд на экуменизм как на ересь, не стесняются обвинять «в связях с еретиками» и использовать уничижительную лексику в адрес священнослужителей, ученых и профессоров духовных школ, сотрудников церковных ведомств, осуществляющих деятельность в сфере межхристианского и межрелигиозного диалога.
Целью данной статьи является анализ наиболее распространенного и заслуживающего пристального внимания аргумента, звучащего из уст критиков, а именно — утверждения о том, что участие в экуменических собраниях, тем более — молениях и совместных служениях, является грубым нарушением ряда древних канонических правил, запрещающих молитвы с еретиками и раскольниками. Эти обвинения смущают совесть многих верующих. Проф. прот. Владислав Цыпин указывал: «Что безусловно предосудительно и соблазняет многих — это участие в экуменических богослужениях, составленных по особому чину, который не идентичен чинопоследованиям, применяемым в самой Православной Церкви. Само существование таких особых экуменических богослужений способно вызвать подозрение, что ВСЦ или иные экуменические организации — это не форумы для встреч представителей разных Христианских Церквей, способствующие поискам ими церковного единства, а что ВСЦ уже в наличном своем состоянии… является „квази-церковью“, с чем невозможно согласиться по фундаментальным экклезиологическим соображениям» [Цыпин, 1997]. В официальном документе Юбилейного Архиерейского собора Русской Православной Церкви 2000 г. «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию» утверждается: «Необходимо достоверное и квалифицированное информирование церковной общественности о ходе, задачах и перспективах контактов и диалога Русской Православной Церкви с инославием. Церковь осуждает тех, кто, используя недостоверную информацию, преднамеренно искажает задачи свидетельства Православной Церкви инославному миру и сознательно клевещет на Священноначалие Церкви, обвиняя его в „измене православию“» (Принципы, 2000, 7. 2–3). Однако авторы документа оставили без ответа утверждение о том, что участие в экуменических мероприятиях противоречит постановлениям священных канонов Церкви.
В данной статье не обсуждается вопрос о целесообразности или, наоборот, нежелательности членства Русской Православной Церкви в тех или иных экуменических организациях (например, ВСЦ), участия в экуменических проектах. Тем более здесь не ставится задача апологии экуменизма. Предметом дискурса является вопрос, относящийся к области церковного права: допустимо ли участие православных иерархов, клириков и мирян в межхристианских (экуменических) собраниях и молитвах с точки зрения священных канонов Церкви, и если да, то в какой форме?
Межхристианские связи в наше время многообразны и осуществляются как на глобальном, так и на национально-государственном, региональном и локальном уровнях в виде участия в работе регулярно действующих организаций, в различных собраниях, конференциях, встречах, образовательных программах. О рациональности и пользе православного участия в них можно судить объективно лишь в каждом отдельном случае. Кроме того, все суждения в данной статье относятся строго к совместным молитвенным собраниям с инославными христианами, но не с представителями других религий (в частности — к т.н. «Ассизским молитвам о мире», представляющим из себя весьма соблазнительное зрелище).
Прежде чем приступить к непосредственному рассмотрению корпуса правил, воспрещающих молитвенное общение с еретиками и отступниками, необходимо прояснить некоторые общие принципы толкования священных канонов, которые, несмотря на их очевидность, часто игнорируются теми, кто настаивает на каноническом буквализме.
«Вседетельная Святая Троица, сотворив этот первый и вещественный мир, — рассуждал прп. Никодим Святогорец в предисловии к составленной им греческой Кормчей («Пидалион»), — привела его в гармонию с помощью различных естественных правил (κανόνας), вложенных в стихии… Таким же образом та же Троица, устроив и второй этот умопостигаемый мир Кафолической Церкви, связала его и скрепила посредством священных и Божественных правил» [Пидалион, 2019, I, 59]. В правиле 1 VII Вселенского Собора утверждается принцип неизменности и незыблемости формул священных канонов Церкви, определенных святыми отцами Церкви по вдохновению Святого Духа3: «И аще пророческий глас повелевает нам во век хранити свидения (т. е. откровения) Божия, и жити в них: то явно есть, яко пребывают оные несокрушимы и непоколеблемы… Понеже сие верно, и засвидетельствовано нам: то, радуяся о сем, подобно как обрел бы кто корысть многу, Божественные правила со услаждением приемлем, и всецелое и непоколеблемое содержим постановление сих правил, изложенных от всехвальных апостол, святых труб Духа, и от шести святых Вселенских Соборов, и поместно собиравшихся для издания таковых заповедей, и от святых отец наших. Ибо все они от единаго и того же Духа быв просвещены, полезное узаконили» (Правило 1 VII Вселенского Собора). Как и догматы веры, каноны являются Богооткровенными установлениями, бережно хранимыми в сокровищнице Священного Предания Вселенской Церкви. Но, в отличие от догматов, сообщающих ведение вечной и неизменной истины о Триедином Боге, Его Промысле о тварном мире и устроении спасения человеческого рода, каноны устанавливают дисциплинарные нормы поведения христиан в земной жизни, о которой справедливо сказал древний философ: «Все движется, и ничто не остается на месте» [Платон, 1990, 636]. Выдающийся русский ученый-канонист еп. Иоанн (Соколов) писал: «Церковь всегда верна сама себе, что при всех видимых переменах во внешнем ее состоянии… или частных каких-либо правил в учреждений, общие основные правила, определяющие порядок и ее управления, всегда остаются одни и те же» [Иоанн Соколов, 1851, I, 29, I]. Отсюда следует, что наряду с неприкосновенными писаными формулами канонов существует подвижная традиция их интерпретации и дифференцированная практика применения для каждого отдельного случая. Потому в корпус канонического права входят не только правила Соборов и свв. отцов, но и обширный справочный материал: комментарии авторитетных юристов Иоанна Зонары, Алексия Аристина, Феодора Вальсамона, церковно-юридические сборники, такие как Номоканон, «Алфавитная Синтагма» Матфея Властаря, славянские Кормчие книги, «Пидалион» прп. Никодима Святогорца. Потому существует наука церковного права, предметом которой являются история, методология толкования и практика применения канонов и византийских церковно-государственных законов.
В правиле 2 Трулльского Собора говорится: «Прекрасным и крайнего тщания достойным признал сей святый собор и то, чтобы отныне, ко исцелению душ и ко уврачеванию страстей, тверды и ненарушимы пребывали приятые и утвержденные бывшими прежде нас святыми и блаженными отцами». Таким образом, «исцеление душ и уврачевание страстей» является, по речению отцов Собора, причиной установления корпуса канонических правил и его основным смыслом. Преподобный Никодим так охарактеризовал собрание священных канонов, собранных в составленном им кодексе и переведенных на новогреческий язык: «Эта книга поистине, как мы ее и назвали, кормило (nn§aXiov) Кафолической Церкви, при помощи которого Церковь управляется и находящихся в ней матросов и пассажиров, то есть священство и мирян, в безопасности переправляет к тихой гавани Горнего Царствия» [Пидалион, 2019, I, 59]. Высшей и конечной целью существования священных канонов является руководство ко спасению. Любая каноническая норма, любое церковное постановление должны служить этой цели. Священные каноны не могут ограничивать спасительную миссию Церкви в этом земном мире — благовестия Христовой веры, иначе это противоречит их смыслу. «...Горе мне, если не благовествую!.. — писал ап. Павел к коринфским христианам, — Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых закона — как чуждый закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его» (1 Кор 9:16–23). В Послании к Тимофею св. Павел писал: «Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху… Но ты… совершай дело благовестника, исполняй служение твое» (2 Тим 4). Исходя из этой высшей цели — духовного блага Церкви и человека, — Церковь с древних времен руководствовалась в своей правоприменительной практике двумя принципами — акривии и икономии. Первый принцип — акривия (aкp^вela) — обусловлен строгим, буквалистским соблюдением всего комплекса церковных правил и норм. Второй принцип — икономия (oiKovo^a), ставит во главу угла соображения духовной пользы или практической целесообразности в отношении всей Церкви или отдельных людей. Чаще всего икономия проявляется в разумном смягчении церковной дисциплины и снисходительности. Принцип икономии образно выражен в словах Спасителя: «Суббота для человека, а не человек для субботы (Мк 2:27)». Наглядный пример дискретного применения этих двух принципов показан в каноническом 1-м правиле свт. Василия Великого, в котором речь идет о различных подходах к признанию действительности таинств Крещения и Священства, совершенных вне Кафолической Церкви. Святой Василий, с одной стороны, утверждал: «Отступившие от Церкви уже не имели на себе благодати Святаго Духа. Ибо оскудело преподаяние благодати, потому что пресеклось законное преемство. Ибо первые отступившие получили посвящение от отцев, и чрез возложение рук их, имели дарование духовное. Но отторженные, сделавшись мирянами, не имели власти ни крестити, ни рукопола-гати, и не могли преподать другим благодать Святаго Духа, от которой сами отпали». Исходя из принципа акривии, все отступники от Церкви не имеют благодати священства. Соответственно, их таинства безблагодатны. Поэтому «угодно было древним, как то Киприану и нашему Фирмилиану, единому определению подчинити всех сих (раскольников). Ибо, хотя начало отступления произошло чрез раскол, но отступившие от церкви уже не имели на себе благодати Святаго Духа». Но, с другой стороны, «…некоторым в Асии угодно было, ради назидания многих (οικονομίας ένεκα των πολλών), прияти крещение их: то да будет оно приемлемо». То есть ради икономии крещение, совершенное вне Церкви, признавалось действительным и не повторялось. Сам же святитель, как сам свидетельствует, продвинулся в икономии еще дальше, так что признал действительность епископского рукоположения неких Зоина и Саторни-на, обратившихся из секты энкратитов. Признание действительности таинств, совершенных в еретических и схизматических сообществах, облегчало для обращающихся в Кафолическую Церковь неизбежное моральное неудобство, происходившее от необходимости принять тот факт, что годы жизни, потраченные на пребывание в сектах, пролетели напрасно. Снисхождение к чувствам людей считалось достаточным основанием для проявления гибкости в практическом применении канонических норм.
В документе «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию» так определяется основная цель православного участия в межконфессиональном диалоге: «Православная Церковь является хранительницей Предания и благодатных даров Древней Церкви, и поэтому главной своей задачей в отношениях с инославием считает постоянное и настойчивое свидетельство, ведущее к раскрытию и принятию истины, выраженной в этом Предании. Задача православного свидетельства возложена на каждого члена Церкви» (Принципы, 2000, 3,
1–2). Участие в межконфессиональном диалоге мыслится как апостольское служение Церкви, обращенное к внешнему миру, проповедь Слова Божия и истинного учения Христа Спасителя. Если православный христианин участвует в межконфессиональной встрече с добрым и нелицемерным намерением поделиться даром спасительной веры с теми, кто отделен от кафолического единства Церкви Христовой, то его действия следует оценивать только с позиции икономии, ибо тем самым он исполняет свой христианский долг. Сама постановка вопроса о нарушении им канонов будет неправомерной.
Выдающийся русский миссионер архиепископ Рижский Платон (Городецкий), впоследствии митрополит Киевский и Галицкий, так наставлял православных латышей и эстонцев, живших в окружении враждебного лютеранского большинства: «Не только сами, возлюбленные, твердо пребывайте в православной Церкви, стараясь соблюдать между собою единство духа, в союзе мира (Еф 4:3), но располагайте и других, чтобы они не уклонялись от сей истинно Христовой Церкви, а тех собратий ваших, которые удалились от нее по своему неразумию и обольщению врагов православия, старайтесь опять привлечь в ее недра. Это будет очень полезно как для них, так и для вас самих, потому что апостол говорит: „Братия, если кто из вас уклонится от истины, и обратит кто его; то обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов (Иак 5:19-20)“» [Платон Городецкий, 1866, 8] . Если же православный христианин, в особенности если это иерарх или клирик, контактируя с инославными, произносит слова или совершает действия, противные православному вероучению и традиции, и подает тем самым повод для соблазна, то он должен нести ответственность согласно всей строгости канонических предписаний.
Второе важнейшее соображение, которым следует руководствоваться при толковании священных канонов, большинство из которых касаются вопросов церковной дисциплины, заключается в том, что по своему характеру «церковное право скорее реактивно , нежели проактивно » [Mihai, 2014, 7]. Соборы формулировали каноны, реагируя на текущие обстоятельства, судебные тяжбы, проступки, предполагавшие санкции и наказания. В основе почти каждого канона лежит уже произошедший инцидент. Но отцы не создавали канонов, имея в виду ситуации, которые могли предположительно возникнуть в будущем. «Эволюция общества и нравов породила явления и грехи доселе неведомые, для которых канонов просто не существует» [Mihai, 2014, 8]. Для разрешения подобных ситуаций, безусловно, можно и нужно обращаться к древним канонам. Но в то же время надо понимать, что их применение будет всегда «по принципу аналогии». Для того чтобы «аналогия» была правомерной, необходимо знать историческую причину, по которой то или иное правило было принято. Также нужно сопоставлять его с другими сходными по смыслу каноническими правилами и государственными законами.
Предпосылки к возникновению экуменического движения и межхристианского диалога как феномена в истории христианской цивилизации возникли не ранее XIX в. Ни в античное время, ни в Средневековье никакого межхристианского диалога не существовало и не могло существовать. Очевидно, что ни одного канона, который имел бы в виду экуменизм, не существует. Также как не существует ни одного канона, который, к примеру, прямо регулирует критерии и процедуру предоставления автокефального статуса Поместным Православным Церквам. Собственно говоря, понятие «автокефалия» в эпоху древних Соборов имело иное значение, нежели в наше время. Также нет канонов, которые можно было бы применять для регулирования взаимоотношений между собой епархий и приходов различных православных юрисдикций в странах диаспоры (Западной Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии). В древности действовал принцип «один город — один епископ» (правило 8 I Вселенского Собора), но он неприменим по объективным причинам и не соблюдается в странах рассеяния. В то же время этот принцип по-прежнему действует в православных странах.
Правило 2 Антиохийского Собора гласит: «Да не будет же позволено имети общение с отлученными от общения, ниже сходитися в домы и молитися с находящимися вне общения церковного: чуждающихся собраний одной церкви не прии-мати и в другой церкви. Аще же кто из епископов, или пресвитеров, или диаконов, или кто-либо из клира, окажется сообщающимся с отлученными от общения: да будет и сам вне общения церковного, яко производящий замешательство в чине церковном».
Традиционно считается, что собрание 25 канонов было написано и принято на Соборе, состоявшемся в Антиохии в 341 г. по случаю освящения Великой, или Золотой, церкви в Антиохии (Domus aurea), на которое собралось около 90 епископов (Афанасий Великий, 1903, 118–119). Собор проходил под руководством двух наиболее могущественных ариан — еп. Евсевия Никомидийского, управлявшего в то время Константинопольской Церковью, и императора Констанция. Как повествует историк Сократ, «приверженцы Евсевия начали дело с клеветы на Афанасия, во-первых, будто он, без общего согласия Собора епископов, приняв снова чин священства и по возвращении из ссылки, позволил сам себе вступить в Церковь, нарушил церковное правило, которое они тогда только постановили» (Сократ Схоластик, 1996, 69). Речь здесь идет о 4-м правиле. Согласно современной версии, Собор, утвердивший 25 канонов, состоялся в 338 г. и не был столь представительным. В этом же году Афанасий был низложен на основании указанного канона [Stephens, 2015, 48]. На то же правило 4 Антиохийского Собора ссылались и враги свт. Иоанна Златоуста, добивавшиеся его низложения. А прп. Палладий Еленопольский, биограф Златоуста, называл участников Антиохийского Собора арианами (Палладий Еленопольский, 2007, 92–93).
Несмотря на то что Антиохийский Собор стяжал дурную репутацию, его правила пользовались большим авторитетом. «Ряд ранних епископов рассматривали их как каноны истинных отцов Церкви» [Stephens, 2015, 36], а Трулльский Собор придал им вселенский авторитет. Правило 2 было составлено ввиду продолжавшейся смуты, произошедшей вследствие низложения свт. Евстафия Антиохийского, борца против арийской ереси [Stephens, 2015, 61–62]. Его сторонники, никейцы, не имели общения с полуарианскими епископами, которые, в свою очередь, считали православных раскольниками. Иными словами, правило изначально было направлено против православных. В хронологическом порядке это первое правило в нынешнем каноническом корпусе, запрещающее молитвы с отлученными от церковного общения, к которым относятся как еретики и схизматики, так и лица, совершившие тяжкие дисциплинарные проступки.
Поместный Собор в Лаодикии Фригийской состоялся между 343 и 381 гг. [Hefele, 1896, II, 298]. Принятые им правила присутствуют во многих древних канонических сборниках начиная с V–VI вв., однако никаких надежных исторических сведений об этом Соборе до нашего времени не дошло. «Полностью дисциплинарное содержание канонов свидетельствует о том, что на момент проведения Синода в догматическом (арианском) конфликте того периода наступило перемирие» [Hefele, 1896, II, 298].
33-е правило Лаодикийского Собора гласит: «Не подобает молитися с еретиком или схизматиком (Ὅτι οὐ δεῖ αἰρετικοῖς, ἢ σχισματικοῖς συνεύχεσθαι)». Правило, опять же, воспрещает совместную молитву с любым отступником от церковного общения, а не только с еретиками. Среди канонов Лаодикийского Собора есть еще несколько определений, которые в совокупности налагают полный запрет на религиозное общение (communicatio in sacris) c еретиками. Правило 6 воспрещает вход в храмы «еретикам, коснеющим в ереси». Правило 9 запрещает посещать кладбища и места погребения еретиков, убитых за веру во время гонений. Правило 34 повторяет этот запрет: «Всякому христианину не подобает оставляли мучеников Христовых, и отхо-дити ко лжемученикам, которые, то есть, у еретиков находятся, или сами еретиками были. Ибо сии удалены от Бога: того ради и прибегающие к ним да будут под клятвою». Правило 32 гласит: «Не подобает от еретиков принимати благословения (то есть освященный в церкви хлеб, антидор. — протодиак. К. М.), которые суть суесловия паче, нежели благословения». Правило 37: «Не должно принимати праздничные дары, посылаемые от иудеев, или еретиков, ниже праздновати с ними».
Собрание 85 Апостольских правил помещено в конце VIII книги «Апостольских постановлений» (глава 47)4. Отсюда происходит их название. В кратком эпилоге (VIII. 48) они излагаются в прямой речи апостолов как их «каноны» для епископов. «Да будут установлены нами для вас, о епископы, эти канонические правила; и если вы будете соблюдать их, то спасетесь и будете иметь мир; если же будете непослушны, то будете наказаны, будете иметь вечную войну друг с другом» (Constitutiones apostolorum, 1906, 593). Эти 85 правил представлены в «Апостольских постановлениях» как решения двенадцати апостолов и апп. Павла и Иакова в Иерусалиме. По общепринятым в наше время научным данным, «Апостольские постановления» — сборник разнородного дисциплинарного и литургического материала — составлен в Сирии (вероятно, в Антиохии) в кон. IV — нач. V вв. [Bardenhewer, 1908, 350]. Преподобный Никодим Святогорец, который верил в апостольское происхождение этих правил, указывал, что «25 правил Антиохийского Собора не только по смыслу согласны с апостольскими, но в разрозненном виде содержат в себе целые речения из них» [Пидали-он, 2019, I, 122–123]. На деле же, «как показывает внимательный анализ, Апостольские правила являются также компиляцией более древних материалов, в частности, Антиохийского (328), Лаодикийского и Никейского (325) Соборов, из которых было взято не менее 28 канонов» [Ohme, 2012 , 29].
Апостольские правила 10 и 11 повторяют предписание правила II Антиохийского Собора: «Аще кто с отлученным от общения церковного помолится, хотя бы то было в доме: таковый да будет отлучен»; «Аще кто, принадлежа к клиру, с изверженным от клира молитися будет, да будет извержен и сам». Правило 45: «Епископ, или пресвитер, или диакон, с еретиками молившийся токмо (συνευξάμενος μόνον), да будет отлучен. Аще же позволит им действовать что либо, яко служителям церкви: да будет извержен». В правиле 46 говорится: «Епископа, или пресвитера, приявших крещение или жертву еретиков, извергати повелеваем». Правило 65: «Аще кто из клира, или мирянин, в синагогу иудейскую или еретическую войдет помолитися: да будет и от чина священнаго извержен, и отлучен от общения церковнаго». Очевидно, что все эти правила, также как и соответствующие правила Лаодикийского Собора, имеют в виду запрет communicatio in sacris со всеми, кто отлучен от церковного общения.
Свтятитель Тимофей, епископ Александрийский (†355), на вопрос о допустимости присутствия ариан и прочих еретиков в храме вместе с православными во время совершения Божественной литургии отвечал: «За Божественной литургией диакон перед временем целования возглашает: „Не приемлемые ко общению, изыдите“. Итак, они не должны присутствовать, если не обещают покаяться и оставить ересь» (Правило 9). То есть вместе с оглашенными и кающимися еретики могли присутствовать в храме до начала литургии верных. Во время совершения таинства могли оставаться в храме и те, кто вознамерился оставить ересь. Это правило подтверждает правоту мысли митр. Сергия (Страгородского): «Мне думается… многое в отношениях Церкви к инославию станет для нас понятнее, если мы не будем упускать из виду, что ино-славие не мыслится Церковью как нечто самостоятельное и совершенно чужое для нее, вроде иноверия; что инославные, в сущности, суть разряд падших или кающихся: падшие отлучены от общения в Таинствах, а некоторые — и в молитвах, однако они еще находятся в Церкви и под ее воздействием» [Сергий Страгородский, 1935, 10].
Свтятитель Иоанн Златоуст учил: «Итак, я говорю и свидетельствую, что производить разделения в Церкви не меньшее зло, как и впадать в ереси. <…> Ничто так не оскорбляет Бога, как разделения в Церкви. Хотя бы мы совершили тысячу добрых дел, подвергнемся осуждению не меньше тех, которые терзали тело Его, если будем расторгать целость Церкви. Вред [от разделений] не меньше того, какой причиняют враги, а гораздо больше. Там доставляется [Церкви] еще больший блеск, между тем как тут она сама себя роняет в главах врагов, когда против нее воюют ее собственные дети. А это потому, что у них [врагов] считается за сильное доказательство обмана, когда те, которые родились в Церкви, в ней воспитаны, хорошо узнали ее тайны, — вдруг, изменившись, восстают против нее, как враги» (Иоанн Златоуст, 1905, XI, 102–103).
Из этих слов ясно, в чем заключается вина еретиков и схизматиков, за которую они подвергались отлучению от Церкви и анафеме. Это — разделение и смута, разрушающая единство Тела Христова. Провокация разделения есть оскорбление, нанесенное Богу. Виновные в этом грехе — «те, которые родились в Церкви, в ней воспитаны, хорошо узнали ее тайны», — это люди, бывшие некогда православными, а потом сознательно отступившие от веры. Большинство современных инославных христиан, персонально участвующих в межконфессиональных мероприятиях, родились и имеют поколения предков, живших в т. н. традиционных христианских исповеданиях, история которых насчитывает столетия. Среди них обычно не встречаются люди, которые были воспитаны в православии, а потом сознательно от него уклонились. Они относятся благожелательно и с интересом к православной вере и никоим образом не смущают мира и единомыслия внутри Православной Церкви. Поэтому здесь возникает закономерный вопрос: насколько разумно таких людей приравнивать к еретикам и схизматикам древности, которые в общей массе были не только сознательными отступниками, но и агрессивными врагами Церкви?
Следует также отметить, что в древности совместная молитва с еретиками и схизматиками могла быть воспринята не иначе как внешнее проявление единомыслия и солидарности с отлученными от церковного общения. Но экуменические встречи и молитвы исходят из противоположной предпосылки. Те, кто в них принимает участие, осознают, что согласие и единомыслие среди них отсутствует, они не являются единоверными христианами. Они лишь обозначают свое стремление к религиозному единству как к цели, которая остается абстрактной и далекой.
В Византийской империи жизнь Церкви в равной степени регламентировалась не только правилами церковных Соборов, но и императорскими законами. Император Юстиниан постановил, «чтобы священные церковные правила, которые были приняты и подтверждены четырьмя Святыми Соборами… считались законами. Мы принимаем догматы этих четырех соборов как Священное Писание и соблюдаем их правила как имеющие силу закона» (Iustiniani novellae, CXXXI, cap. I, 1895, 654-655). То же постановление в отношении догматов и канонов уже семи Вселенских Соборов повторил император Лев VI Мудрый: «Итак, повелеваем, чтобы священные церковные каноны, принятые и утвержденные Святыми семью Соборами… соблюдались как законы (τάξις νόμων). Мы принимаем догматы вышеупомянутых соборов как Священное Писание и храним их правила как законы» (Basilicorum Libri V. tit. III. II, 1833, 133–134).
Для того чтобы верно интерпретировать каноны, их необходимо также сопоставлять с религиозными законами Византийской империи. Император Константин Великий в своей речи, обращенной к епископам, собравшимся на Никейский Собор, объявил: «Внутренний раздор Церкви для меня страшнее и тягостнее всякой войны и битвы, это печалит меня более, чем все внешнее» (Евсевий Кесарийский, 1850, 175– 176). Эти слова определили религиозную политику императора Константина и всех его преемников. Единство народа в кафолической вере и Церкви является залогом гражданского единства и мира в империи. Потому те, кто подрывает единство Церкви, совершают преступление не только против Церкви, но и против государства и общества, и должны быть подвергнуты законным карам.
Первые указы о репрессиях по отношению к раскольникам-донатистам издал вскоре после 315 г. император Константин Великий. Текста указа не сохранилось, но о нем упоминал в одном из своих писем блж. Августин: «Тогда Константин впервые издал очень строгий закон против секты Доната. Его сыновья, следуя примеру отца, также издали подобные постановления. Затем его сменил Юлиан Отступник и враг Христов; он, по ходатайству твоих последователей Рогатиана и Понтия, предоставил секте Доната свободу учения и восстановил базилики для еретиков, убежденный, что таким образом христианство исчезнет с лица земли, если будет устранено единство Церкви, от которой они отделились, и даст свободу святотатственным расколам» (St. Augustinus Hipponensis, Epist. 105.9 // PL 33. Col. 399–400).
В 326 г. был издан указ, касавшийся уже всех еретиков: «Привилегии, дарованные в отношении религии, должны быть предоставлены только последователям кафолической веры. Напротив, по воле нашей, еретики и раскольники должны быть не только лишены этих привилегий, но и подвергнуты различным обязательным государственным повинностям» (Codex ^eodosianus XVI. 5. 1. 1842, col. 1521). В 380 г. императоры Грациан, Валентиниан и Феодосий издали закон «De fide catholica (Cunctos populos)», в котором православное кафолическое христианство было провозглашено единственной государственной религией в Римской империи, а все еретики и отступники «должны потерпеть бесчестие (infamia), связанное с еретическим учением», что означало поражение в гражданских и имущественных правах. В 381 г. был издан указ, в котором повелевалось, что все, кто не состоит в общении с православными епископами, «должны быть изгнаны из своих церквей как явные еретики и впредь совсем лишены права и власти приобретать церкви, дабы священство истинной Ни-кейской веры оставалось чистым, и после ясных постановлений нашего закона (т. е. “De fide catholica”. — протодиак. К. М. ) не оставалось возможности для злонамеренных коварств» (Codex Theodosianus XVI. I. 3, 1842, col. 1477–1478). В 386 г. было издано постановление, что «все зачинщики смуты и нарушители мира Церкви поплатятся жизнью и кровью как за оскорбление величия [государственную измену]» (Codex Theodosianus XVI. I. 4. 1842, col. 1479). В 407 г. императоры Аркадий и Гонорий издали эдикт против манихеев и донатистов, согласно которому ересь должна считаться уголовным преступлением (crimen publicum), ибо «все, что совершается против Божественной религии, несет вред всем людям» (Codex Theodosianus XVI. 5. 40, 1842, col. 1546–1547). В 4-м и 5-м титулах (главах) XVI книги Кодекса Феодосия содержится множество императорских указов, согласно которым принадлежность к еретическим и схизматическим сообществам каралась не только поражением в правах или лишением права, но тюремным заключением, телесными наказаниями и вечной ссылкой.
Эти суровые нормы повторялись и в позднейших законах. Так, например, император Юстиниан постановил: «Мы считаем, что истинная и непорочная христианская вера есть первое и величайшее благо, которым пользуются люди, что ее следует укреплять во всех отношениях и что все святые священники по всей земле должны объединиться для ее проповеди и искоренять всякое лжеучение, как предписывают наши законы и наши эдикты. Но так как еретики не имеют страха Божия и не обращают внимания на наказания, которые грозят им по строгости закона, так как они исполняют дело дьявола и обольщением развращают некоторых слабых людей, заставляя их отречься от святой кафолической веры и Апостольской Церкви; и поскольку они тайно проводят нечестивые собрания и тайно совершают поддельные крещения, мы пришли к выводу, что благочестие должно предостеречь таких лиц настоящим нашим указом, чтобы они оставили свои безумные заблуждения, прекратили губить души неразумных, вернулись в Святую Церковь Божию, где проповедуются истинные догматы и где анафематствуются все ереси с их начальниками. Еретикам объявляется, что если в будущем кто-либо из них будет уличен в посещении запрещенных собраний или в проведении их в своих домах, то, не терпя этого, мы передадим Святой Церкви здания, в которых совершаются подобные преступления, и подвергнем провинившихся наказаниям, установленным нашими постановлениями» (Justiniani Novellae CXXXII, 1895, 665).
В Византийской империи задача возвращения упорствующих еретиков в общение с Кафолической Церковью решалась государством посредством репрессий (см. 104-е правило Карфагенского Собора). Но и в то время звучали призывы к гуманному отношению к еретикам. Тот же Карфагенский Собор постановил относительно донатистов:
«По дознании и исследовании всего, пользе церковной споспешествовати могущего, по мановению и внушению Духа Божия, мы избрали за лучшее поступати с вышеупомянутыми людьми кротко и мирно, хотя они беспокойным своим разномыслием и весьма удаляются от единства тела Господня» (правило 77).
Святитель Григорий Богослов, имея в виду соблазнившихся духоборческой ересью, увещевал их признать Божество Св. Духа такими словами: «Мы домогаемся не победы, а возвращения братьев, разлука с которыми терзает нас» (Григорий Богослов, 2007, 491). Святитель Иоанн Златоуст рассуждение о гибельности ересей и расколов закончил такими словами: «Поэтому я прошу вас и самим твердо основаться здесь (т. е. в Церкви. — протодиак. К. М. ), и отложившихся привести, чтобы нам воспослать единодушную благодарность Богу, Которому слава во веки. Аминь» (Иоанн Златоуст, 1905, XI (1), 106). В ином слове свт. Иоанн учил: «Еретические учения, несогласные с принятыми нами, должно проклинать и нечестивые догматы обличать, но людей нужно всячески щадить и молиться об их спасении» (Иоанн Златоуст, 1898, I (2), 757).
Византийская империя с ее религиозными законами осталась в далеком прошлом. В современных светских государствах, как известно, декларируется принцип свободы совести и иноверие считается не преступлением против государства и общества, а проявлением законного плюрализма в сфере религиозных убеждений. Преступлением против государства и общества, наоборот, считается оскорбление религиозных чувств и разжигание межрелигиозной вражды. Поэтому, в отличие от византийской эпохи и Средневековья, в наше время не существует иных путей православной миссии среди инославных христиан, кроме непосредственного и благожелательного диалога, выражающегося в участии в межконфессиональных встречах различного формата. С точки зрения пользы Церкви и общества, вряд ли следует считать разумным пренебрежение теми возможностями для диалога, которые дают современные межконфессиональные отношения.
Заключение
Подводя итог, следует сформулировать несколько кратких тезисов, которые предлагаются для определения корректной практики применения канонов, запрещающих религиозное общение с еретиками и раскольниками, в обстоятельствах современной жизни Православной Церкви.
-
1. Все отношения и контакты с инославными христианами члены Русской Православной Церкви должны строить на основании нормативного документа Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви 2000 г. «Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к инославию». Документ декларирует, что основной целью этих контактов является «постоянное и настойчивое свидетельство» об истине православной веры. Каждый православный христианин — священнослужитель или мирянин, несет ответственность перед Богом и Церковью за соответствие своих слов и действий Священному Преданию и православному вероучению.
-
2. Правила 2, 10, 11 Антиохийского Собора, 33 Лаодикийского Собора, 10, 11, 45, 46 и иные, приведенные выше, запрещают всякое религиозное общение (communicatio in sacris) с еретиками, раскольниками и всеми, кто отлучен от церковного общения. Эти правила следует считать актуальными и действительными. Они полагают принцип, который продолжает действовать в современной жизни как исходная общая норма церковного права. Так, например, если православный христианин в воскресный день вместо посещения богослужения в православном храме направится «для разнообразия» помолиться в собрание инославных, то очевидно, что такой поступок будет являться нарушением канонической дисциплины без всяких поправок на исключительные обстоятельства.
-
3. Как и остальные канонические правила, указанные правила следует применять, руководствуясь принципом акривии (строгости) или икономии (снисходительности
-
4. Принципом акривии в отношении фактов религиозного общения с неправославными христианами следует руководствоваться в следующих случаях: а) православный христианин дерзает участвовать в таинствах, совершаемых в неправославных сообществах, и принимает регулярное участие в их богослужебных собраниях (однако из этого общего принципа следует исключить частные факты нерегулярного посещения инославных богослужений православными по семейным причинам, с целью поддержания дружеских или добрососедских отношений и т.п., в особенности в тех странах, где православные составляют религиозное меньшинство); б) православный христианин поддерживает любые религиозные связи c членами схизматических и сектантских объединений и групп, а также частными лицами, отпавшими от церковного общения, ведущими открытую и агрессивную враждебную деятельность или пропаганду по отношению к православию и, в частности, к Русской Православной Церкви.
-
5. Участие православных иерархов, священнослужителей и мирян в экуменических межконфессиональных собраниях и мероприятиях, в том числе и в совместных молитвах, которые проводятся в рамках таких мероприятий, следует квалифицировать как допустимое и законное частное исключение из общей канонической практики, при условии если они происходят по благословению священноначалия Православной Церкви и носят церковно-дипломатический, миссионерский, миротворческий, научно-образовательный характер. Следует ясно иметь в виду, что исключения по икономии не подрывают незыблемости общих принципов церковного канонического порядка. Поэтому нет никакого смысла стремиться к ограничению такого участия, аргументируя это тем, что так якобы нарушаются священные каноны Церкви. Тем не менее, участвуя в экуменических встречах, следует строго воздерживаться от слов и действий, которые создают иллюзию свершившегося «примирения» и «единства» между православными и инославными христианами. В этом смысле следует признать, что наиболее подходящим и плодотворным форматом межконфессиональных контактов являются научные конференции, диспуты, собеседования, семинары, в рамках которых происходит предметное обсуждение различий в вероучении и проблем, которые разделяют христиан, и путей их решения.
и целесообразности) в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Приведенный выше пример икономии (правило 1 свт. Василия Великого) , применявшейся в древности и определяющей современный порядок приема в Православную Церковь обращающихся из инославных исповеданий, наглядно показывает, насколько может быть гибким подход к применению дисциплинарных норм, когда дело касается возвращения отпавших в церковное общение. Вполне логично, что же подход должен применяться в деле православного свидетельства для христиан, находящихся вне общения с Православной Церковью.
Проблему «православного экуменизма» и диалога с инославием нельзя сводить только к церковно-правовому аспекту. У нее есть грани богословского и этического свойства. Однако, по глубокому убеждению автора этих строк, основанному прежде всего на личном опыте, диалог с инославием открывает широкие возможности для проповеди и свидетельства о Богооткровенной истине православия тем, кто исповедует Христа и верует в Евангелие, но находится вне ограды Церкви Христовой. Важнейшим вызовом современности, общим для всех здравомыслящих христиан, является необходимость защиты евангельского морально-нравственного закона перед лицом идеологии воинствующего секулярного релятивизма, губительного для христианской цивилизации. И этом вызову необходимо противостоять, объединяя усилия. Преподобный Антоний Великий учил, что первой добродетелью для подвижника является рассудительность: «Ибо она учит человека идти царским путем (via regia), сторонясь крайностей с обеих сторон: с правой стороны не допускает обольщаться чрезмерным воздержанием, с левой — увлекаться к беспечности и расслаблению» (цит. по: (Иоанн Кассиан, 1892, 190)). Если это изречение слегка перефразировать, оно точно выразит суть разумного и трезвого подхода к проблеме православного участия в экуменических и межхристианских контактах. Это подход заключается в том, что и здесь следует «идти царским путем», избегая «зилотского» безусловного отрицания и беспечного, романтического индифферентизма по отношению к существующим противоречиям в вере, полагающего, что «братская любовь» стирает все преграды. Но следует также и помнить очевидную истину, что без контакта, без диалога, без общения апостольское служение Церкви немыслимо и неосуществимо.