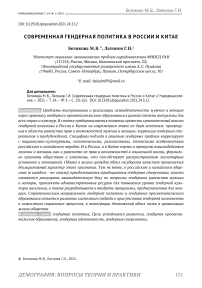Современная гендерная политика в России и Китае
Автор: Беликова Марина Васильевна, Латинов Гарольд Игоревич
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Демография: вопросы теории и практики
Статья в выпуске: 3 т.24, 2021 года.
Бесплатный доступ
Проблемы выстраивания и реализации самоидентичности мужчин и женщин через практику гендерного просветительского образования в разной степени актуальны для всех стран и культур. В статье предпринимается попытка провести сравнительный анализ гендерной политики в России и Китае на современном этапе по двум аспектам: просвещение в области равенства прав и возможностей мужчин и женщин; коррекция гендерных стереотипов и предубеждений. Специфика подхода к решению гендерных проблем коррелирует с национально-культурными, политическими, религиозными, этическими особенностями российского и китайского народов. И в России, и в Китае нормы и принципы взаимодействия мужчин и женщин, как и равенство их прав и возможностей в социальной жизни, формально признаны обществом и узаконены, что способствует распространению эгалитарных установок и отношений. Однако в жизни граждан обоих государств зачастую проявляется декларативный характер этого признания. Тем не менее, в российском и китайском обществе (в каждом - по-своему) преодолеваются традиционные гендерные стереотипы, власти пытаются расширять законодательную базу по вопросам гендерного равенства мужчин и женщин, привлекать административные ресурсы для повышения уровня гендерной культуры населения, а также разрабатывать и внедрять программы, предназначенные для женщин. Стратегическим направлением гендерной политики и гендерного просветительского образования остается развитие системного подхода к присутствию гендерной компоненты в осмыслении социальных процессов, к интеграции достижений обоих полов в организации жизни общества.
Гендерная политика, цели устойчивого развития, гендерное просветительское образование, гендерная идентичность, гендерные стереотипы
Короткий адрес: https://sciup.org/143177797
IDR: 143177797 | DOI: 10.19181/population.2021.24.3.12
Текст научной статьи Современная гендерная политика в России и Китае
В сегодняшнем мире отстаивание женщинами и мужчинами равных прав и возможностей в различных сферах общественной жизни делает необходимым формирование объективного отношения к гендерной политике со стороны государства. У истоков такого подхода с позиций государственной власти стояла Организация Объединённых Наций (ООН), которая поддержала инициативу создания главного глобального межправительственного органа — Комиссии по положению женщин (1945 г.), а также организации «ООН-женщины» (2010 г.) и с целью закрепления жизненно важной роли женщин, необходимости их полного и равноправного участия во всех областях устойчивого развития последовательно приняла более ста документов. [1] Однако, несмотря на сохраняющуюся во многих странах актуальность требований, сформулированных в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 г.) и Пекинской декларации и Платформы действий (1995 г.), по словам генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, «наша культура все еще ориентирована на мужчин»1. Такое положение дел подтолкнуло ООН в 2015 г. инициировать глобальную рамочную программу — Цели устойчивого развития, где целью 5 было объявлено «обеспечение гендерного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин и девочек»2. Деятельность в этом направлении помогла многим правительствам выработать опыт по преодолению гендерной дискриминации. В России, например, в последние годы «положение о социальной детерминации пола и способах её проявления интегрировано в большинство областей научного знания» [2], происходят социокультурные изменения статусно-ролевых позиций женщин; постепенно преодолеваются стереотипы, связанные с карьерой женщин, их представительством в сфере политики, управления и бизнеса; сокращается список запрещённых для женщин профессий [3]. Среди важных достижений китайского правительства — снижение доли женщин в рабочей силе [4]; расширение доступа женщин к получению высшего профессионального обра-зования3; появление женщин в предпринимательской сфере4; утверждение в обществе нормы активного участия женщин в политической деятельности (в 2020 г.— 1 министр, 15 заместителей министра, 56 руководителей провинциального уровня, около 500 мэров или вице-мэров)5; предоставление женщинам возможностей открытого выражения своих политических требований на интернет-платфор-мах (например, WeChat) [5].
В статье предпринимается попытка провести сравнительный анализ некоторых аспектов гендерной политики в России и Китае на современном этапе развития. Структурированность имеющегося по данной проблематике материала ограничена рамками рассмотрения двух, наиболее значимых, по нашему мнению, направлений системы гендерного просветительского образования, предложенных А. В. Швецовой — просвещение в области равенства прав и возможностей мужчин и женщин; коррекция гендерных стереотипов и предубеждений [6].
Просвещение в области равенства прав и возможностей мужчин и женщин
Различия в выстраивании гендерной политики в России и Китае изначально обусловливаются исходными демографиче- скими характеристиками, социально-политическими и экономическими приоритетами, а также гендерным соотношением. Наглядным это становится при анализе основных демографических показателей за последние полвека (табл. 1).
Таблица 1
Население России и Китая в 1970–2020 годах
Table 1
Population of Russia and China in 1970–2020
|
Государство |
1970 г. |
2000 г. |
2020 г. |
|
Общая численность населения, млн человек |
|||
|
Россия |
129,9 |
146,9 |
146,7 |
|
Китай |
796,0 |
1242,6 |
1411,8 |
|
Численность мужского населения, млн человек |
|||
|
Россия |
59,1 |
68,7 |
68,1 |
|
Китай |
420,0 |
647,9 |
749,8 |
|
Численность женского населения, млн человек |
|||
|
Россия |
70,8 |
78,2 |
78,6 |
|
Китай |
398,3 |
614,8 |
694,2 |
|
Соотношение полов (женщин на 1000 мужчин) |
|||
|
Россия |
1198 |
1138 |
1154 |
|
Китай |
948 |
949 |
926 |
Источники: составлено на основе данных Росстата: [сайт]. – URL: folder/12781; данных Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН: [сайт].— URL: (дата обращения: 20.05.2021).
Данные таблицы позволяют сравнить результаты репродуктивной политики КНР с демографическими показателями России. В Китае, при жёсткой политике ограничения рождаемости, гендерный дисбаланс в сторону преобладания мужского населения над женским очень значителен. Отметим, что в Китае с начала 1980-х гг. было запрещено проводить диагностические исследования беременных женщин (как и аборты) с селективной це-лью6. Но мальчиков за последние полвека все равно рождалось значительно больше, чем девочек (превышение было самым большим в мире). В России, при отсутствии жесткой политики по вопросам рождаемости и больших различиях в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами, видно существен- ное преобладание доли женского населения над мужским, как и в большинстве европейских стран. Указанные особенности демографической ситуации в странах остаются значимыми до сегодняшнего времени, хотя в мае 2021 г. руководство КНР объявило о политике «одна семья — три ребёнка», что должно в перспективе способствовать снижению дисбаланса в гендерном составе населения.
Объединяющим началом в данном круге проблем является то, что демократизация и гуманизация мирового сообщества вызывает всё более углублённое и разностороннее развитие личностных аспектов, а глобализация способствует распространению призывов к толерантности в отношении людей с различными видами сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Отметим также, что существуют различия в реализации названных направлений гендерной политики и гендерного просветительского образования по отношению к разным возрастным группам внутри конкретной общественной системы. Однако основное содержание гендерного просветительского образования для нас заключается в формировании представлений о реальном равноправии всех в одинаковой степени, в преодолении стереотипных представлений о сущности мужского и женского, в воспитании адекватного отношения к гендерным различиям и признания равенства между людьми, несмотря на любые различия [7; 8].
Индикатором качественного уровня просветительской деятельности государства в данной сфере является соблюдение прав и свобод каждого человека независимо от пола, возраста, социальных характеристик. В России, соединяющей в себе черты западной и восточной культурных систем, с одной стороны, по аналогии с западными государствами, нормы и принципы взаимодействия мужчин и женщин, как и равенство их прав и возможностей в социальной жизни, признаны обществом и узаконены Конституцией РФ (п. 3 ст. 19), что способствует распространению эгалитарных установок и отношений. Более того, Национальная стратегия действий в интересах женщин на 2017–2022 гг. заявила о повышении уровня участия женщин в общественно-политической жизни России, в том числе за счёт организации просветительских программ 7.
Однако, с другой стороны, признание равных прав и возможностей мужчин и женщин зачастую выглядит декларативным, поскольку немалая часть российского населения остаётся под влиянием традиционных (патриархальных) гендерных норм и гендерных стереотипов [9; 1. С. 40–41; 10. С. 7–24.]. По данным ВЦИОМ (март 2019 г.), «каждый второй (53%)
россиянин-участник опроса считает, что равенство обязанностей мужчин и женщин возможно только в отдельных сферах и только каждый третий (32%) — что возможно полное равенство обязанностей»8. Закономерными в этом смысле выглядят и результаты исследования Индекса гендерного разрыва в мире (Global Gender Gap Index): в 2019 г. Россия заняла 81-е место (в 2018 г.— 75-е место) — это следствие занимаемого 122-го места в мире по политическому критерию гендерного равенства, в том числе по количеству женщин в парламенте у России 112-е место 9.
Несмотря на одобрение и ратификацию Россией документов ООН, призывающих к преодолению гендерной асимметрии, и даже внедрение достижений гендерного знания в систему высшего образования, осознанность гендерной проблематики государством и обществом в целом «остаётся на периферии анализа модернизации российского общества» [11]. И, тем не менее, более 20 лет современная российская система образования активно исследует и реализует на практике возможности гендерного подхода, видя в этом основу для «стратегии изменения гендерных представлений и идеалов населения» [12], появления новых множественных моделей «маскулинности» и «феминности» [4], «создание условий для максимальной самореализации и раскрытия способностей» представителями обоих полов [6; 8; 1. С. 165–187; 21].
В Китае гендерное равенство, будучи закреплено законодательно (Конституция КНР 1949 г.; Закон КНР «О защите прав и интересов женщин» 1992 г.; Закон КНР «Об охране здоровья матери и ребёнка» 1994 г.; Закон о семье 2001 г. и другие законы), также в большей степени является декларированной целью, нежели бесспорным фактом [5], что, безусловно, находит отражение в официальных отчётах и выступлениях, описывающих прогресс в данной сфере с позиций китайских властей [1; 14]. Международные источники по-своему определяют достижения Китая: в рейтинге Индекса гендерного неравенства ООН (Gender Inequality Index), который измеряет развитие человека в странах мира с точки зрения равноправия полов, Китай занимает 39-е место (2020 г.)10. Поэтому допустимо сделать вывод о том, что, несмотря на справедливое постулирование эгалитарного характера права, ряд вопросов данной проблематики в китайском обществе де-факто остаются нерешёнными: экономическое неравенство, неравенство в вопросах разделения власти и в оплате труда, в реализации права доступа к образованию.
Большой проблемой китайских женщин остаются различия в их условиях жизни в городе и в сельских общинах: если первая категория женщин пользуются равными с мужчинами правами в обществе, получая высшее образование и участвуя в науке, политике, творчестве и в социальном управлении, то вторая категория женщин зачастую имеет низкий в сравнении с мужчинами социальный статус [5]. Ещё один современный вызов, который будет актуальным и в ближайшие десятилетия — количественный дисбаланс между мужским и женским населением в сторону последнего11 [15]. Перечисленные проблемы часто приобретают особую остроту в соединении с политическим дискурсом [16], попадая на территории КНР под цензурные ограничения [17]. Таким образом, в китайском обществе присутствует интерес к проблеме как со стороны непризнанных феминистских организаций, так и со стороны официальных органов (Всекитайская федерация женщин, Комитет женской молодежи и другие).
Коррекция гендерных стереотипов и предубеждений
Безусловно, одной из основных задач гендерного образования является объяснение природы гендерных стереотипов, изучение стандартизированных представлений о моделях поведения и чертах характера, соответствующих понятиям «мужское» и «женское» [18], а также их изменений под воздействием исторических и социальных условий.
В России до сих пор остаётся значимым гендерный стереотип, в основе которого, как пишет Н. М. Римашевская, создатель первой в России Лаборатории гендерных проблем ИСЭПН РАН, «лежат давно устоявшиеся патриархальные представления о ролевых функциях мужчины и женщины, а кроме того их биологические особенности, дополняемые принципиальной важностью «женственности» и «мужественности» [10]. Невозможно не согласиться с мнением, что и сегодня обозначенное разделение ролевых функций женщины и мужчины продолжает создавать условия для «серьезной гендерной асимметрии в жизни общества, сопровождаемой целым каскадом негативных последствий и социальных вызовов нового времени» [10].
В среде нынешней российской молодёжи жизненные стратегии мужчин и женщин остаются во многом схожими — получение высшего образования, приоритет карьерного роста, позднее создание семьи и рождение детей, преобладание социально значимой деятельности над личной, семейной сферой. Среднее и старшее поколение россиян более подвержены гендерным предубеждениям, хотя формально могут заявлять о праве всех на равенство. В итоге искажение когнитивного содержания гендерных установок и убеждений мешает адекватному восприятию мужчин и женщин друг другом, усугубляет социальные проблемы с позиций гендерного измерения, «поддерживает» дискриминацию в обществе и ещё дальше отдаляет российское общество от демократических идеалов.
Китайский социум сегодня продолжает испытывать последствия представлений о женщине, как менее ценном члене семьи и общества12. Такое распространённое и достаточно укоренившееся традиционное отношение влечёт за собой различные негативные последствия, одно из которых — самый высокий в мире уровень самоубийств среди китайских женщин (на 25% выше, чем у мужчин) 13. Большая часть самоубийств происходит в сельских районах, что можно объяснить недостаточными возможностями и правами для самореализации женщины в тех условиях. Конечно, китайские женщины сегодня становятся всё более активными в отстаивании своих прав и преодолении инерции многовекового господства традиционных гендерных стереотипов: движение против сексуальных домогательств в учебных заведениях и на рабочем месте «Я тоже», выступления известной группы пяти женщин-феминисток, протестующих против сексуальных домогательств в метро14. Однако эти случаи, как и возможность открыто заявлять свои требования на ин-тернет-платформах, на деле жёстко контролируются и часто пресекаются властями, усматривающими в них потенциальный источник общественного беспокойства. Такая реакция, видимо, обусловлена сохранением определённого отношения к женщине, столетиями господствовавшего в китайской культуре и традициях.
Политика жесткого ограничения рождаемости, проводимая китайским правительством в 1979–2015 гг., также способствовала, как уже упоминалось, поддержанию более значимого положения мужчины в сравнении с положением женщи- ны. Несмотря на определённую степень успешности, формула «одна семья — один ребёнок» вызывала сопротивление и попытки обеспечить появление в семье ребёнка мужского пола. Нелегальные УЗИ с целью не допустить рождения девочек, убийства их сразу после рождения, последовавший «трафик невест» из-за рубежа стали печальными следствиями борьбы патриархальных устоев против рационального духа реформ. Пока восходящие к старому аграрному обществу стереотипы, наподобие 男耕女织 («мужчины пашут, женщины ткут»), медленно уничтожаются изменением условий жизни, на смену им приходят новые проблемы. Сформировавшаяся вследствие проводившейся демографической политики диспропорция между мужским и женским населением не может быть быстро изменена [19]. Миллионы мужчин не в состоянии реализовать традиционную семейную модель. По данным ООН, соотношение полов в Китае, по прогнозам, достигнет к 2050 г. 106 мужчин на 100 женщин15. С другой стороны, та же модель предполагает относительно ранний (до 25 лет) возраст вступления женщин в брак. Женщины, имеющие иные приоритеты, могут подвергаться давлению со стороны родственников. Не вступившие в брак после 25 лет, сталкиваются с осуждением, несмотря на достигнутые успехи [20]. Видимо, сохраняет свою значимость господствовавший в китайской культуре до образования КНР стереотип, когда «незамужняя 18-летняя девушка считалась старой девой» [21].
Однако стоит ещё раз подчеркнуть, что, как бы значимы ни были нынешние сложности, история китайского общества знала куда более трагичные ситуации. Этнограф Фэй Сяотун описывал распространение традиций умерщвления девочек, приведший в XIX в. к тому, что на 140 мужчин брачного возраста приходилось 100 девушек того же возраста, при этом последние оставались абсолютно бесправными в во- просах заключения брака, выбора партнёра, рождения детей [4. С. 44].
Китайское правительство, озабоченное решением проблем гендерного неравенства и сопутствующими вопросами (медицинское обслуживание, женское здоровье), разрабатывает и внедряет программы, предназначенные для женщин. Национальная программа развития женщин на 2011–2020 гг., например, особое внимание уделяла «увеличению доступа к профилактическим осмотрам, стандартным услугам в области репродуктивного здоровья, а также просвещению в области здравоохранения и питания» 16.
Ещё одна реалия китайского общества, «поддерживаемая», в том числе дисбалансом в соотношении полов — гомосексуальность. Гомосексуальность перестала считаться преступлением в Китае в 1997 г., а психическим расстройством— в 2001 году. ЛГБТ-сегмент китайского общества имеет свои особенности: количественное преобладание мужчин в составе населения как важный источник его развития; отсутствие упоминаний в официальном информационном пространстве; заметное экономическое влияние; наличие в качестве «естественного примера» для сравнения Тайваня, где, в частности, разрешены однополые браки.
Существенным преимуществом Китая в преодолении различных сексуальных и гендерных предубеждений, является отсутствие значимых религиозных институтов, провозглашающих те или иные табу в данной сфере, а также ослабление позиций патриархального конфуцианства [22]. Это, как и присущий современному китайскому обществу прагматизм, сое- диняющийся с западным индивидуализмом, формируют новые направления для преобразований.
Заключение
Подводя итоги исследования, следует отметить:
-
• специфика гендерной политики России и Китая обусловлена исходными демографическими характеристиками, социально-политическими и экономическими приоритетами, а также гендерным соотношением;
-
• в целом официальная гендерная политика в области равенства прав и возможностей мужчин и женщин в обоих государствах направлена на преодоление гендерной дискриминации и распространение эгалитарных установок и отношений во всех сферах жизнедеятельности. Однако сформулированные цели зачастую приобретают в обоих государствах декларативный характер в силу сохранения стандартизированных представлений о моделях поведения, поддерживающих условия для гендерной асимметрии;
-
• несомненно важным остаётся запрос на просветительское гендерное образование со стороны молодых людей, для которых в быстро меняющейся среде с высоким уровнем социального напряжения гендерное самоопределение и сексуальная жизнь становятся источником стресса;
-
• полноценная реализация гендерной политики требует системного подхода к присутствию гендерной компоненты в осмыслении социальных процессов, к интеграции достижений и проблем обоих полов в организацию жизни общества, к преодолению разного рода гендерных стереотипов с целью соблюдения интересов как мужчин, так и женщин.
Список литературы Современная гендерная политика в России и Китае
- Штылёва, Л.В. Педагогика и гендер: развитие тендерных подходов в образовании / Л. В. Штылёва // Женщина в российском обществе.— 2000.— № 3(19). — С. 61-66.
- Ключко, О.И. Гендерные трансформации в ментальности современных российских школьниц / О. И. Ключко, Л. В. Штылёва // Перспективы науки и образования. — 2019.— № . 2(38).— С. 240-255. DOI: 10.32744/pse.2019.2.18.
- Абрамова, А. А. Существует ли феномен «стеклянного потолка» в современной российской реальности? / А. А. Абрамова // Nauka.me: [сайт].—URL: https://nauka.me/s241328880013302-6-1/ DOI: 10.18254/S241328880013302-6. (дата обращения: 04.05.2021).
- Сяотун, Фэй. Китайская деревня глазами этнографа / Фэй Сяотун. — Москва : Наука. 1989.— 247 с.
- Цзиньлин, Чэнь. Гендерная политика Китая / Чэнь Цзиньлин // Вестник Забайкальского гос. ун-та.— 2016.—Т. 22.— № 10. — С. 83-88. DOI: 10.21209/2227-9245-2016-22-10-83-88.
- Швецова, А. В. О реализации принципов гендерного образования в российских вузах / А. В. Швецова // Педагогическое образование в России. — 2017.— № 2.— С. 67-73.
- Липатова, С. Д. Гендерный подход в образовании: история и современность / С. Д. Липатова // Урал индустриальный. Бакунинские чтения: материалы VIII Всероссийской научной конференции, (Екатеринбург, 27-28 апреля 2007 г.). Т. 1. — Екатеринбург : АМБ, 2007. — С. 350354. ISBN 978-5-8057-0592-3.
- Костикова, И.В. Специфика философии гендерного образования / И. В. Костикова, А. А. Костикова // Профессиональное образование в современном мире.— 2018. — Т. 7.— № 4.— С. 1498-1504. DOI: 10.15372/PEMW20170422.
- Курганская, М.Ю. Гендерное образование как главный инструмент ослабления гендерной дискриминации на рынке труда / М. Ю. Курганская, М. В. Пертая // Проблемы современного педагогического образования.— 2018.— № . 60-2. — С. 221-223.
- Римашевская, Н.М. Гендерные стереотипы и логика социальных отношений / Н. М. Рима-шевская // О насилии в отношении женщин / Под ред. и с предисл. Н. М. Римашевской.—Мо-сква : КомКнига, 2005.— 353 с.
- Овчарова, О.Г. Гендерное образование в России: международно-правовые факторы развития / О. Г. Овчарова // Социал-демократический союз женщин России: [сайт]: — URL: http://sdwomen.ru/history/99-gendernoe-obrazovanie-v-ossii.html (дата обращения: 15.04.2021).
- Теория и практика реализации гендерного подхода в образовании: материалы всероссийской конференции 16 июня 2016 г., Москва / ред. Л. Ю. Максимова. — Москва : Физматкнига, 2016.— 544 с.
- Лунякова, Л. Г. Развитие и распространение гендерных знаний и гендерного образования в России: вклад МЦГИ / Л. Г. Лунякова // Равные права и равные возможности женщин и мужчин в сфере высшего образования. Гендерное образование в России.— Москва : Макс-Пресс, 2008. — С. 225-236.
- Ли, Вань. Исследование политического участия женщин в развитии Китая / Вань Ли // Дацинский педагогический журнал.— 2008.— № 4. — С. 42-43.
- Steinhauer, Isabella. «Sex and Sexual Education in China: Traditional Values and Social Implications» (2016) / Isabella Steinhauer // Digital Collections: [сайт].—URL: digitalcollections.sit. edu/isp_collection/2291 (дата обращения: 15.04.2021).
- Fincher, Leta Hong. Leftover Women: The Resurgence of Gender Inequality in China / Leta Hong Fincher // London: Zed Books.— 2014.— 224 p.
- Tsui, Ming. The Only Child and Educational Opportunity for Girls in Urban China. / Ming Tsui, Lynne Rich // Gender and Society.- Vol. 16.- No. 1 (Feb., 2002).- Р. 74-92. DOI: 10.1177/0891243202016001005.
- Воронина, О. А. Гендер и культура / О. А. Воронина // Женщины и социальная политика — Women and social policy: (гендерный аспект) / Отв. ред. З. А. Хоткина. — Москва : ИСЭПН РАН, 1992.—С. 10-22.
- Lam, Nuala Gathercole. Beyond #MeToo in China / Nuala Gathercole Lam // Made in China Journal — 2019.— № 1. — Р. 64-71.
- Babiarz, Kimberly Singer. Population sex imbalance in China before the One-Child Policy / Kimberly Singer Babiarz et al // Demographic-research.org: [сайт].—URL: www.demographic-research.org/ Volumes/Vol40/13/ DOI: 10.4054/DemRes.2019.40.13. (дата обращения: 15.04.2021).
- Дампилон, Н.Б. Юридический статус женщин в Китае: осуществление эгалитаризма в семейном праве / Н. Б. Дампилон // Вестник Бурятского госуниверситета.— 2011.— № 8.— С. 6-10.
- Hung, Jason. Gender Equality in China / Jason Hung // Oxford Human Rights Hub: [сайт].—URL: http://ohrh.law.ox.ac.uk/gender-equality-in-china/ (дата обращения: 15.04.2021).