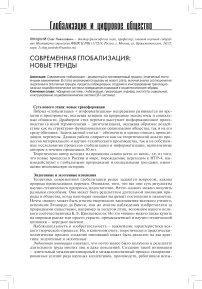Современная глобализация: новые тренды
Автор: Яницкий Олег Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Глобализация и цифровое общество
Статья в выпуске: 6, 2019 года.
Бесплатный доступ
Современная глобализация - динамичный и противоречивый процесс, отмеченный постоянными изменениями. В статье анализируются вызовы ее нового этапа, включая анализ соотношения ее эндогенных и экзогенных трендов, процессы гибридизации, создание и конструирование транснациональных и превращения индивидов в социотехнические гибриды.
Гибридные системы, глобализация, гуманизация, индивид, институты социальные, конструирование социобиотехнических систем (сбт-системы)
Короткий адрес: https://sciup.org/170171037
IDR: 170171037 | DOI: 10.31171/vlast.v27i6.6836
Текст научной статьи Современная глобализация: новые тренды
Суть нового этапа: новые трансформации
Гибрид «глобализация + информатизация» непрерывно развивается во времени и пространстве, оказывая влияние на природные экосистемы и социальные общности. Драйвером этих перемен выступает информационное производство (в иной терминологии – дигитализация), оказывая обратное воздействие как на структурно-функциональную организацию общества, так и на его среду обитания. Задача данной статьи – обозначить и кратко описать происходящие перемены. Данная работа опирается как на теоретический анализ процессов материального и научно-технического производства, так и на собственные исследования процессов глобализации и информатизации, выполненные автором в течение прошедших 50 лет.
Теоретически автор исходил из принципа «связи всего со всем», т.е. из того, что новые процессы в России и мире, порождаемые переходом к НТР-4, взаимодействуют с глобальными природными и социальными трендами, имеющими многовековую историю.
Эндогенные и экзогенные изменения
Теоретики современной глобализации редко задаются вопросом, какова природа происходящих перемен. Очевидно, того, что все они суть результаты научно-технического прогресса, недостаточно. Нечто «новое» можно получить разными способами. Оно может быть результатом длительной эволюции природы и общества, когда некоторая новация вызревает постепенно и незаметно. Нечто «новое» может быть итогом творческого вдохновения великого ученого, вспомним Леонардо да Винчи, или же итогом наблюдения изобретателем за природными существами, например за полетом птиц, вспомним нашего великого соотечественника К.Э. Циолковского. Но это «новое» можно также купить на мировом рынке или просто украсть; промышленный и научно-технический шпионаж – нередкое явление.
Наблюдательность и изобретательность – важнейшие характеристики всякого творческого процесса. Но, в конечном счете, теоретически и практически-политически процесс создания инноваций может быть разделен на два архетипа: эндогенные и экзогенные.
Эндогенная инновация означает, что нечто новое было получено в результате длительного труда многих лиц и даже поколений. Создание такой инновации – длительный междисциплинарный и межведомственный процесс скоординированных усилий ряда научных коллективов, производств, работников испы- тательных лабораторий или полигонов и т.д., процесс, в котором производство знаний и умений играет решающую, но не единственную роль. Это процесс, в котором взаимопонимание и взаимодействие теоретиков, экспериментаторов и производственников одинаково необходимо. Естественно, все этапы этого многоступенчатого процесса имеют свои временные параметры и согласованность. В противном случае в итоге может быть получено лекарство, которое вредит здоровью больного, или изделие, которое способно нанести вред всему человечеству. То есть, временные рамки детерминируются также морально-этическими принципами типа «не навреди!».
Для такого длительного многостороннего процесса нужны немалые ресурсы: иногда это только деньги, в других случаях – доступ к дефицитным природным ресурсам, в третьих – наличие персонала высокой квалификации и технологий, необходимых для экспериментирования, и т.д. Наконец, нельзя забывать о том, что в современном, тесно связанном мире идет соревнование за первенство, которое, кроме славы, сулит немалую прибыль и другие «бонусы». Причем сегодня порой уже трудно различать продукцию гражданского и военного назначения.
Экзогенная инновация – это в общем и целом заимствование, легальное или тайное. Достаточно напомнить, что еще в 1922 г. по инициативе академика В.И. Вернадского и В.Г. Хлопина в России был создан Радиевый институт. Нередко в литературе встречается вопрос: как мог не-физик Вернадский предсказать возможность использования атомной энергии? Сошлюсь на мысль А. Эйнштейна: «Интуиция сильнее знания, а воображение сильнее разума». Но в политических условиях 1920–1950-х гг. пришлось многое на ходу заимствовать у США, куда эмигрировали или позже были насильно вывезены многие немецкие ученые.
Чаще всего экзогенная инновация приводит к копированию и получению разового успеха, поскольку ни производство научного знания, ни его экспериментальная и промышленная база, включая их кадры и организацию, не готовы к массовому переходу на новый научно-технологический уровень общественного производства. Или, как это и случилось после окончания Великой Отечественной войны, необходимо начать мобилизацию научно-технических и всех других видов ресурсов для достижения ядерного (или иного) паритета с США.
В тех случаях, когда какая-то страна или корпорация создает следующую инновацию, она продает патент на производство прежней инновации – так, например, в фарминдустрии других стран возникает производство дженериков. В иных случаях поступают еще проще: копируют инновации, созданные в других странах, или же производят несколько измененные копии оригинала и выбрасывают на рынок по более низкой цене. Так что промышленный шпионаж или хакерство – дело экономически выгодное, но политически опасное. Для нас главное понять, что экзогенная инновация является «точечным» феноменом, который не вызывает развитие всего общественного организма, а также что при инновациях такого рода развитие научно-технического творчества не стимулируется должным образом. В стимулировании производства экзогенных инноваций существенную роль играет человеческий фактор, т.к. всегда есть соблазн быстро что-то где-то позаимствовать (а потом – с выгодой продать), нежели долго изобретать и конструировать.
Наконец, длительное наблюдение за развитием атомной индустрии (я имею в виду только строительство атомных электростанций) показало, что «среда их обитания», в частности научно-техническая подготовка обслуживающего их персонала, играет весьма существенную роль в обеспечении безопасности их последующего функционирования.
Динамичная и неравновесная глобализация
Причин этой ситуации множество. Одни государства и компании, развивая ее экзогенные формы, как, например, США, являются лидерами глобализации, тогда как другие социальные общности вынуждены включаться в нее «на ходу», стараясь одновременно развивать необходимые для этого информационнокоммуникационные технологии, быстро обучать производственный, обслуживающий персонал и все население. То есть, неравновесность, понимаемая здесь как неравномерное включение в процесс глобализации, проявляется в том, что информационно-коммуникационный потенциал центров и периферии также становится разным.
Это, в свою очередь, вызывает неравномерный охват достижениями НТР-4 всей страны, являясь дополнительным стимулом к социальному «опустыниванию» малых населенных мест, т.к. их население уезжает на работу в большие города или становится «вахтовиками» или постоянными мигрантами. Ведь владение элементарными навыками интернет-коммуникации – это лишь вершина айсберга, называемого четвертой промышленной революцией. Необходимо готовить к переходу на ее рельсы всю страну, начиная от создания концепции такого перехода до организации необходимой производственной базы, переподготовки старого или обучения нового персонала, изменения системы среднего и высшего образования и т.д. Если речь идет об экзогенной глобализации, т.е. о переходе к НТР-4, то в принципе необходимые кадры и соответствующая информация производятся во всех возможных точках глобального социальноинформационного пространства.
С моей точки зрения, динамичность и неравновесность суть две стороны одной медали. С одной стороны, инновации всегда возникают в определенных точках этого пространства (научных институтах, университетах, лабораториях, семинарах и т.п.), порождая тем самым вр е менную неравновесность всей информационно-коммуникационной системы. А с другой стороны, параллельно или с некоторым запаздыванием происходит ее выравнивание через систему учебных заведений, курсов переподготовки и повышения квалификации, социальные сети, создание виртуальных научно-технических сообществ и т.д. Так что глобализация всегда есть некоторый пульсирующий процесс, результат которого трудно заранее предсказать.
Гибридизация и создание социобиотехнических систем
Человек издавна стремился «приручить» дикую природу самыми разными способами – от использования солнечной, водной и ветровой энергии до процессов одомашнивания диких животных и гибридизации растительного мира. Так что гибридизация – давний и постепенный процесс вмешательства человека в природные экосистемы.
Однако уже в ходе второй и третьей промышленных революций вмешательство человека в эти системы оборачивалось для него сначала локальными, а потом и масштабными экологическими катастрофами. Первая и Вторая мировые войны показали, что человечество подошло к опасному для него рубежу саморазрушения и даже полного самоуничтожения.
Проблема в том, что развитие науки и техники достигло такого уровня, что человек смог создавать сначала комплексные, а потом и гибридные системы. Суть первых состояла в том, человек научился согласовывать активность природных и искусственно созданных технических систем (зданий, сооружений, искусственно поддерживаемых природных ландшафтов). Суть вторых иная – это сращивание природных, социальных и технических систем в некие социобиотехнические системы, требующие непрерывного контроля и поддержи со стороны комплекса наук и квалифицированного персонала [Яницкий 2016].
Но гибридизация имеет свою опасную сторону. Человек научился создавать такие информационно-коммуникационные системы, которые способны проникать не только в любые другие социально-экономические структуры, но и в мозг человека, тем самым регулируя или направляя его поведение в нужном кому-то направлении. При этом такое воздействие может происходить мгновенно и незаметно для индивидуального «пользователя», что означает потенциальную возможность воздействия на индивида, группу и общество в целом со стороны. В результате человек и его социальные группы сами превращаются в регулируемые извне гибриды, т.к. их поведение программируется извне.
Есть ли предел всеобщей гибридизации? Пока такой не просматривается. Напротив, начинается война хакеров с антихакерами, что требует создания новых технических устройств, постоянно борющихся с уязвимостями, перманентного переобучения персонала, создания программ и устройств, защищающих рядового потребителя, и т.д. Напротив, поскольку такая война ведется не только против людей, но и созданных ими технических устройств (атомных станций, систем управления, а также сетей газоснабжения и водоснабжения и других коммуникаций), то вероятность аварии любых сложных технических систем нарастает.
Социальные и политические последствия гибридизации
Эта тема требует специального анализа, поэтому отмечу лишь главное: существующие институциональные системы, от локальных и до мировых, уже не отвечают тому качеству и скорости перемен, которые происходят в глобальном мире. Мировая геополитическая система уже давно реагирует на это несоответствие, но реагирует очень медленно и односторонне, что не отвечает растущему разнообразию ситуаций, скорости их изменений и вариантов взаимодействия. Стабильная международная геополитическая система, созданная более 70 лет назад, вошла в противоречие с высокомобильной гибридной глобальной социо-биотехнической системой (далее – СБТ-система).
Пока что существующая международная институциональная система реагирует на этот разрыв соглашениями о намерениях, временными договоренностями и созданием дорожных карт. Но это лишь временные меры, итерации, а для того, чтобы вовремя принимать адекватные решения, необходимо непрерывное наблюдение за изменяющейся геополитической ситуацией, т.е. фактически нужен непрерывный глобальный мониторинг, что уже реализуется гражданскими и военными спутниковыми системами. Но сегодня уже и этого недостаточно, потому что нужен мониторинг и искусственно создаваемых природных катастроф, а также, и это главное, последствий глобального потепления.
Реальна ли эта задача? Полагаю, что она не только реальна, но чрезвычайно актуальна. В противном случае разрешение глобальных геополитических конфликтов останется утопией. Что касается ее практической реализации, то ею уже занимаются наши и западные специалисты в области глобализации и гибридных войн. Она уже постепенно решается практически, хотя в большинстве случаев «очаговым» способом, т.е. внимание и технические ресурсы сосредоточены на локальных и региональных очагах глобальных конфликтов. И в этом нет ничего удивительного, поскольку сегодня каждый такой «узел» есть функция очередного глобального геополитического конфликта.
Трудность решения подобных задач скорее ментальная, нежели экономикотехнологическая. За исключением сферы специальных военно-технических исследований, корпус современных международных политиков рекрутиру- ется из сфер бизнеса, разведки и публичной политики. Как правило, эти люди, обладая огромным опытом разрешения реальных конфликтов (или создания новых, как это делает сегодня президент Д. Трамп), не склонны мыслить динамически, просчитывая ближайшие и отдаленные последствия своих решений. Современные политики предпочитают решать конкретные задачи и ставить конкретные цели. То, что современная динамика глобального мира требует серьезной корректировки фундаментальных основ международной политики, отступает на второй план. Даже устойчивость такого института, как государство, не может быть достигнута без его периодической трансформации, в частности потому, что его «несущим каркасом» являются мобильные сетевые системы. Однако напомню еще раз: «Все связано со всем и все куда-то попадает. И ничего не дается даром» (Б. Коммонер).
Новый этап глобализации: конструирование транснациональных систем
Задним числом сегодня уже ясно, что хаотичная динамика глобализации и столь же хаотичная гибридизация ее «побочных эффектов» не может продолжаться бесконечно. Наступает этап конструирования глобальных, следовательно, и транснациональных СБТ-систем. Историки до сих пор спорят, кем и когда был проложен Шелковый путь – купцами Средневековья, кочевниками-скотоводами древности, или это был просто путь миграции крупных животных в поисках пищи или климатических изменений.
Но нынешний Шелковый путь или, как его теперь именуют, «Один пояс – один путь», это крупнейший геополитический проект современности. То есть, предстоит спроектировать и построить гигантскую СБТ-систему, пересекающую несколько социально-экономических и природных экосистем (территориальных, речных, морских и т.д.). Очевидно, что эта СБТ-система даст новый импульс развитию экономики и социальных сообществ тех стран, через которые она пройдет. То есть, этот проект – пример экзогенной глобализации.
Но каковы будут отдаленные социальные и экологические последствия реализации этого проекта, сейчас предсказать никто не может. Сегодня Китай позиционирует себя как экологически ориентированное общество, и это вполне объяснимо, потому что в течение многих лет уровень загрязнения среды обитания в этой стране просто зашкаливал. Однако уже сейчас можно сказать, что торговая война, которую сегодня ведут США против Китая, может наложить серьезные ограничения на эти благие намерения. Но есть много других рисков, например, если народ и власти стран, которые пересечет этот Новый путь, сочтут этот проект «экспансией» или, как минимум, потребуют от Китая пересмотра условий этого «трансграничного» соглашения.
Однако, в отличие от международного проекта по глобальным рискам ( Global Risk Report , 2019), в котором мир рассматривался как стационарная дисперсная система сообществ, связанная сетью глобальных экономических и других коммуникаций, проект «Один пояс – один путь» является изначально динамической системой. Поэтому он представляет для ученых и политиков любых дисциплин и направлений интерес именно как развивающаяся и потому неопределенная глобальная система.
Превращение индивида в социотехнический гибрид
Военно-техническая мысль всегда опережала гражданскую науку, поэтому начну с простого примера. Научно-технические разработки в этой области показывают, что солдат на поле боя превращается по существу в боевую единицу, действия которой являются результатом непрерывной коммуникации между солдатом, находящимся в непрерывно изменяющейся боевой обстановке, и его командованием, обладающим техническими возможностями быстрой обработки поступающей информации и выработки команд для такой боевой единицы [Буренок 2019]. Конечно, это упрощенная схема, однако ее основные структурно-функциональные элементы здесь обозначены верно. Здесь главное – время на принятие решения и нанесение ответного удара.
Но в том-то и суть проблемы, что типологически глобальная ситуация в мирное время точно такая же, как и в военное время. Только вместо команд и директив вышестоящего начальника здесь командует рынок, и его главный инструмент – регулирование поведения индивида и массы средствами массовой информации. Естественно, чтобы рыночная система работала, массы должны все время покупать товары и услуги, и чем быстрее, тем для капитала лучше.
Но это не все. Современный транснациональный капитал, перемещаясь по миру, вынуждает трудящихся и их семьи все время мигрировать. Он, этот капитал, а не отдельные индивиды, определяет направление и скорость перемещения людских масс, а вместе с этим – возникновение новых очагов политических и социальных конфликтов. Опираясь на информационно-коммуникационные технологии, капитал все более подчиняет сознание и поведение индивида и людских масс цифровой технике. Преодоление этой зависимости заключено в тесном взаимодействии естественных, социальных и гуманитарных наук [Лукьянова 2019].
Если этот тренд будет нарастать, то возникает глобальный риск превращения индивида в социотехнический гибрид, т.е. создания тотально управляемой человеческой массы, которая будет направляться туда и в таком количестве, как это нужно в данный момент капиталу. Остальные перейдут в категорию «лишних людей» или, по З. Бауману, «человеческих отходов» [Bauman 2004].
Выводы
Современная глобализация – это не количественный, а качественный феномен. Глобализация, стимулируемая и направляемая только «цифровизацией» производства и общества, ведет к полному подчинению человечества системе «умных машин», к лишению масс людей и каждого индивида в отдельности возможностей самоорганизации и принятия самостоятельных решений. Чтобы противостоять этому тренду, необходима форсированная гуманизация принципов дальнейшего развития НТР-4, основанная на тесном сотрудничестве естественных, социальных и гуманитарных наук.
Список литературы Современная глобализация: новые тренды
- Буренок В. 2019. "Ратник" с искусственным интеллектом. - Военно-промышленный курьер. № 15(778). С. 4-5
- Лукьянова Е.Д. 2019. Создание искусственного интеллекта: современные достижения и отложенные риски. - Социологическая наука и социальная практика. Т. 7. № 1. С. 142-148
- Яницкий О.Н. 2016. Социобиотехнические системы: новый взгляд на взаимодействие человека и природы. - Социологическая наука и социальная практика. № 3. С. 5-22
- Bauman Z. 2004. Wasted Lives. Modernity and Its Outcasts. Cambridge, UK: Polity Press. 140 p