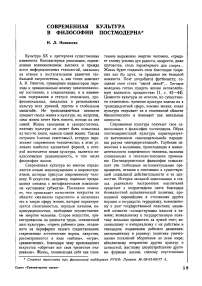Современная культура в философии постмодерна
Автор: Новикова Н.Л.
Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu
Рубрика: Прикладная культурология. Философия
Статья в выпуске: 3, 2008 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14719100
IDR: 14719100
Текст статьи Современная культура в философии постмодерна
Культура XX в. претерпела существенные изменения. Компьютерная революция, порожденная возникновением высоких и прежде всего информационных технологий, оказалась не этапом в поступательном развитии глобальной сверхсистемы, а, как точно замечает А. И. Ракитов, суммарным индикатором перехода к принципиально новому цивилизованному состоянию, а следовательно, и к изменению содержания и статуса этнических, профессиональных, локальных и региональных культур всех уровней, притом в глобальном масштабе. Не трансцендентные ценности придают смысл жизни и культуре, но, напротив, сама жизнь хочет быть понята, исходя из нее самой. Жизнь самоценна и самодостаточна, поэтому культура не может быть осмыслена из чего-то иного, нежели самой жизни. Такова ситуация («новые симптомы»), которую переживает современное человечество; в этих условиях наиболее адекватной формой, в которой постигается новая культура, является неклассическая рациональность, в том числе ^и л осетин жизни.
Современная культура во многом определяется новым мироощущением и мировосприятием, которые присущи современному человеку. В искусстве, например, коренные превращения связаны с метафизическим изменением «установок субъекта», Последнее означает, что происходит вытеснение искусства из области «жизненно серьезного» и включение его в такую сферу жизни, которая характеризуется спонтанностью, игровым началом, непринужденностью, свободным осуществлением энергии человека. Старое искусство, ориентированное на ценности труда, «священный долг культуры», «горечь рабочего дня», отодвинуто на периферию нашего существования; современные эстетические нормы, напротив, рассматриваются в виде «забавы», «игры», «развлечения», благодаря чему произведение искусства «обретает все свое трепетное очарование». Жизнь, понимающая себя как спон танное выражение энергии человека, «придает своему усилию дух радости, щедрости, даже шутовства, столь характерного для спорта... Жизнь будет создавать свои блестящие творения как бы шутя, не придавая им большой важности. Поэт уподобится футболисту, создавая свои стихи '‘одной левой”... Сегодня молодежь готова придать жизни непоколебимую видимость празднества» [1, с. 43—44]. Ценности культуры не исчезли, но существенно изменились: прежняя культура видела их в трансцендентной сфере, помимо жизни; новая культура открывает их в спонтанной области биологического и понимает как витальные ценности.
Современная культура получает свое самосознание в философии постмодерна. Образ постмодернистской культуры характеризуется вытеснением «законодательной» парадигмы разума «интерпретативной». Глубокие изменения в мышлении, происходящие в жизнедеятельности современного человека, вызваны социальными и гносеологическими причинами. Постмодернистская философия осмысливает эти глобальные интеллектуальные превращения, вставая в оппозицию к существующей социальной действительности и ее ценностям. История западной цивилизации в глазах радикально настроенных мыслителей предстает в неприглядном свете благодаря безжалостной захватнической политике, проводимой европейцами в отношении других народов и государств; терроризму, возведенному в ранг государственной политики; неуемной алчности господствующих классов к наживе; возведенному в государственную политику желанию процветать за чужой счет; колониализму и империализму с их рабством и геноцидом; подавлению рабочего движения; антисемитизму и расизму; политике уничтожения поселений аборигенов во всем мире; абсолютному неприятию других культур и ценностей; жесткому злоупотреблению другими формами жизни; слепому опустошению регионов планеты. «Логика развития привела к тому, — писал современный философ-экзистенциалист К. Ясперс, — что эпоха буржуазного умиротворения, прогресса, образования, исторического воспоминания в качестве опоры собственной мнимой безопасности сменилась эпохой опустошающих войн, гибели и убийства массы людей (при неисчерпаемом росте масс), ужасающей угрозы уничтожения гуманности в круговерти, в которой распад явит себя господствующим фактором» [3, с. 497]. Постмодернизм объявил некогда незыблемые каноны западной демократии, выраженные в понятиях «человек», «разум», «цивилизация», «прогрессе, несостоятельными в нравственном и интеллектуальном смысле.
Радикальные изменения в контексте западной культуры рождают в гносеологическом плане критическую «деконструкцию» традиционных представлений, когда способом постижения действительности становится идея разрушения всех существующих установок, верований и представлений — повсюду философия находит видимости, достойные разоблачения. В этом смысле постмодернизм есть «антиномическое движение, задавшееся целью разложить западное мышление на части... взяв на вооружение деконструкцию, де-центрацию, устранение, разбрасывание, демистификацию, прерывание, расхождение, рассеивание и т. д. Подобные понятия... выражают эпистемологическую одержимость разрывами и разломами, а также соответствующую идеологическую приверженность различным меньшинствам — политическим, сексуальным и языковым. Правильно думать, правильно чувствовать, правильно поступать, правильно читать, согласно этой episteme уничтожения, означает — отказаться от тирании целого; абсолютизация любого из человеческих начинаний чревата тоталитаризмом» [2, с. 340].
Посредством интерпретативного разума осуществился переход с поиска оснований знания, лежащих в трансцендентной сфере, на поиск оснований, находящихся в повседневной жизненной практике. Для нового разума основания знания следует искать не в метафизике, но в коммуникации, общении эмпирических индивидов. Постмодернистская парадигма мышления предполагает множественную локальность действительности, которая не имеет в себе никакого основания. Виде ние мира, складывающееся в такой эпистемологической парадигме, будет относиться к чему-то местному и специфическому. Концепции, претендующие на универсальную объяснительную способность, не заслуживают доверия по той причине, что связаны с эмпирическими подтасовками и интеллектуальным авторитаризмом — «законодательный» разум имеет тенденцию «унифицировать истину насилием» (Г. Риккерт). Постмодернизм актуализировал настроение, сформировавшееся еще в начале нашего века: его выразил Дж. Дьюи, заявив: «Главное интеллектуальное настроение нашего века — это отчаяние, к которому приходят от любых целостных воззрений и позиций». Новое мышление, выраженное постмодернизмом, представляет собой, по мнению Ж.-Ф. Лиотара, «недоверие к метаповествованиям».
Невозможность «метаповествования» вытекает из различных форм нигилизма, имеющего онтологическое происхождение. Онтологический нигилизм есть утрата логики смысла в самой современной действительности, в самом бытии; под влиянием существующих общественных отношений появилось такое поколение людей, для которых исчезло их подлинное бытие — потеря высших ценностей превращает их жизнь в поток сиюминутных наслаждений, быстро меняющихся аффектов; инк «равнодушно умирают и равнодушно убивают» (К. Ясперс). Добровольный отказ от высшего, нежелание посвятить себя служению чему-то возвышенному делают человека пассивным существом, утратившим критическую способность разума. Можно сказать, что в такой ситуации «люди смело отказываются от всякого смысла и объявляют смыслом намеренную бессмыслицу» [3, с. 449].
В культуре постмодернизма особую ценность приобретает идея пластичности мира и постоянного изменения действительности. В силу данного обстоятельства предпочтение отдается не общим принципам, не застывшему и отвлеченному знанию, но конкретному опыту. Адекватным образом философии будет такой дискурс, который ориентирован на множественность, неоднозначность; любое решение будет не абсолютным, но относительным, допускающим бесконечный пересмотр. Наша действительность не представляет нечто прочное и инвариантное; ее самодостаточно- сти противостоит текучий саморазворачиваю-шийся процесс, открывающийся в сознании субъекта. Человек как субъект силой своего воображения конструирует свою жизнь посредством разума и воли, он создает свой контекст мира, который зависит с точки зрения интерпретативной способности от других контекстов Существует приоритет интерпретации над объектом; объект есть производное, вторичное от объяснения. Человек не сторонний наблюдатель происходящего — он сам непосредственно включен в существующую действительность, поэтому одновременно изменяет как действительность, так и себя.
Поступила 10.06.08.
ЗАМЕТКИ О РЕЦЕПЦИИ ИДЕЙМ. М. БАХТИНА ВО ФРАНЦИИ В 1980-е гг.
Н. Б. Панкова f История восприятия идей М. М. Бахтина ; во Франции ведет свое начало с 1967 г., с вы' хода в свет первой статьи Ю. Кристевой, выз-| вавшей широкий резонанс в структуралистс-I кой среде и поток публикаций (в основном | социолингвистического плана) в 1970-е гг.
В начале 1980-х гг., после выхода книги ‘ Цв. Тодорова «Михаил Бахтин: Диалогический i принцип» (1981), подведшей черту под «структу-■ ралистским» этапом восприятия бахтинских ! идей во Франции, началась новая фаза исследо-; ваний, которая основывалась на использовании работ Круга Бахтина, опубликованных там в конце 1970 — начале 1980-х гг.: «Марксизм и фило; софия языка», «Эстетика и теория романа», ' «Фрейдизм», «Эстетика словесного творчества».
Несмотря на то что всплеск интереса к творчеству русского мыслителя несколько пошел на убыль, период 1980-х гг. также был отмечен появлением исследований ряда лингвистов, работавших в области прагматики, се; миотиков, философов и др. В первую очередь I необходимо назвать таких различных по науч-1 ним интересам исследователей, как Жиль Де: лез и Феликс Гваттари, Пьер Бурдье, Франсис ! Жак, Мишель Пеше, а также Жаклин Отье-; Ревю и Освальд Дюкро.
Так, Ж. Делез и Ф. Гваттари в труде «Тысяча плато», питая к Бахтину-философу и психоаналитику очевидный интерес, ссылаются непосредственно на работы мыслителя, когда говорят об «относительно небольшом числе лингвистов, которые анализировали неизбежно социальный характер высказывания...» [3, с. 101, здесь и далее перевод наш — Н. П\ Исследователи, обращаясь к осмыслению косвенной речи, используют традиционные бахтинские понятия (голоса, свободная речь), а также упоминают мыслителя, затрагивая лингвистическую проблематику: «Как говорит Бахтин, до тех пор, пока лингвистика добывает постоянные признаки, она оказывается неспособной объяснить нам, как одно слово образует целое высказывание» {3, с. 103}.
Среди лингвистических работ, созданных под влиянием М, М. Бахтина, следует также отметить статью М. Пеше «О деконструкции лингвистических теорий», важную в плане осмысления лингвистических теорий, появившихся в начале 1980-х гг., в тот момент, когда во Франции публиковались главные труды М. М. Бахтина.
Значительный интерес представляет статья Ж. Отье-Ревю «Гетерогенность явная и
Список литературы Современная культура в философии постмодерна
- Ортега-и-Гассет X. Что такое философия? М., 1991.
- Тарнас Р. История западного мышления. М., 1995.
- Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991.