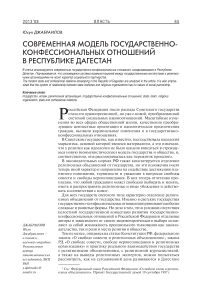Современная модель государственно-конфессиональных отношений в Республике Дагестан
Автор: Джабраилов Юсуп Джабраилович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Религия, общество, государство
Статья в выпуске: 8, 2013 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются современные государственно-конфессиональные отношения, складывающиеся в Республике Дагестан. Подчеркивается, что сложившаяся система взаимоотношений между государственными институтами и религиозными организациями не носит характер социального партнерства.
Государство, ислам, религиозная организация, государственно-конфессиональные отношения
Короткий адрес: https://sciup.org/170167071
IDR: 170167071
Текст научной статьи Современная модель государственно-конфессиональных отношений в Республике Дагестан
Р оссийская Федерация после распада Советского государства стала его правопреемницей, но уже с новой, преобразованной системой социальных взаимоотношений. Масштабные изменения во всех сферах общественной жизни, качественно преобразующие ценностные ориентации и идеологические предпочтения граждан, вызвали кардинальные изменения и в государственноконфессиональных отношениях.
В Советском государстве, как известно, господствовала идеология марксизма, основой которой являлся материализм, а это означало, что у религии как идеологии не было шансов вписаться в строящуюся новую (коммунистическую) модель государства и общества, и, соответственно, она рассматривалась как пережиток прошлого.
В законодательных нормах РФ также констатируется отделение религиозных объединений от государства, но эти положения носят теперь иной характер и направлены на содействие достижению взаимного понимания, терпимости и уважения в вопросах свободы совести и свободы вероисповедания. В них теперь отчетливо прописано, что любой гражданин может свободно выбирать и менять, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними1.
Для всех государств светского типа характерно отделение религиозных объединений от государства. Именно в светских государствах государственно-конфессиональные отношения принимают наиболее сложные и развитые формы. Но дело в том, что в условиях отсутствия целостной государственной концепции развития государственноконфессиональных отношений в Российской Федерации отдельные авторы в зависимости от своего мировоззренческого выбора оставляют за собой возможность произвольного толкования как законодательства, так и роли и места религии в обществе.
Тем не менее, опираясь на статьи Конституции РФ, федерального закона «О свободе совести и религиозных объединениях», закона РД «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях» и практику реального взаимодействия государства с религиозными объединениями, с религиозной журналистикой, а также на выводы религиозных экспертов, можно попытаться рассмотреть, как на сегодняшний день развиваются в Дагестане государственно-конфессиональные отношения.
В самом общем виде по характеру отношений с религиозными объединениями государства подразделяются на государства теократического и светского типов.
Для государств теократического типа свойственно слияние государственных и религиозных институтов.
Среди вариантов государственноконфессиональных отношений в светском государстве можно выделить следующие типы: сегрегационный (атеистический), сепарационный (нейтральность государства в отношении религии), кооперационный (социальное партнерство).
По официальным данным в Республике Дагестан всего 2 544 религиозные организации и 1 централизованная. Из них 2 489 (97,8%), в т.ч. все духовные образовательные учреждения и единственная централизованная религиозная организация (Духовное управление мусульман Дагестана – ДУМД), – исламские.
Хотя подавляющее большинство населения республики (около 90%) идентифицируют себя в качестве мусульман, однако элементарными знаниями о требованиях, предъявляемых религией к верующему, обладают не более 14% мусульманского населения РД1. Официальное духовенство направляет свой политический, социальный и мировоззренческий потенциал на преодоление религиозного невежества и построение исламского общества в республике.
В то же время следует подчеркнуть, что религиозные деятели ДУМД всегда являлись «государственниками». Но подобная направленность понимается не как сговор государственной и религиозной бюрократии (как это пытаются подать отдельные представители религиозных радикалов и экспертного сообщества), а скорее как позиция, направленная против дестабилизации и смуты в социальнополитической жизни республики.
Здесь достаточно упомянуть об активной гражданской позиции всех религиозных деятелей традиционного ислама, не поддержавших вторжение бандформирова- ний на территорию Республики Дагестан в 1999 г., а, наоборот, противостоящих подобным действиям. Следует отметить также взвешенную позицию официального духовенства в 2012 г., благодаря которой в т.ч. не сбылись негативные прогнозы экспертов после самого резонансного события всей общественно-политической жизни в новейшей истории Дагестана – убийства самого влиятельного духовного лидера мусульман не только республики, но и всего Северного Кавказа, шейха Саида афанди Чиркейского. (В этой ситуации эксперты предрекали развязывание чуть ли не гражданской войны в регионе2.)
Так, пятничная проповедь 31 августа 2012 г. имама Джума-мечети г. Махачкалы М. Саадуева была целиком посвящена призыву верующих к терпению и сохранению спокойствия. В проповеди особо подчеркивалось, что «смерть устаза не должна стать причиной какой либо смуты, фитны, а призывы к этому – звенья цепи политических интриг, политических планов, которые хотят кровопролития в нашем регионе».
Отношение ислама к власти, ее легитимности довольно ясно выражается в суннитской концепции власти, которая не характеризуется какими-либо крайними позициями в этом вопросе. Сунниты – приверженцы такой формы власти, которую осуществляет выбираемый авторитетными мусульманами член религиозной общины, обладающий непререкаемым авторитетом, знанием религиозных норм, богобоязненностью, имеющий генеалогическую связь с родом курейшитов. Ислам зиждется на идее справедливости как общечеловеческой ценности. Этим характеризуются все социальные отношения, в т.ч. и деятельность правителей (чиновников). Но, к сожалению, основные тенденции трансформации социальной структуры современного дагестанского общества – это углубление социального неравенства по всем показателям (экономическим, политическим, социальным).
Хотя в законодательстве республики не исключается возможность индивидуального общения гражданина с органами власти по проблемам, связанным с его свободой совести и свободой вероисповедания, тем не менее в реальности общение с государством в основном ведут религиозные деятели, религиозная журналистика, академические структуры, связанные с преподаванием религиоведческих дисциплин.
Следовательно, одним из факторов, повышающих легитимность государственной власти в глазах мусульман традиционного направления, было бы создание при высшем должностном лице Республики Дагестан реально действующего координационного совета по делам религий, в рамках которого путем диалога решались бы все актуальные вопросы государственно-конфессиональных отношений. Учреждение такого совета, на наш взгляд, позволило бы избежать однобокости государственной вероисповедальной политики и наладить сотрудничество между государственными институтами и религиозными организациями.
О недостаточном внимании государства к религиозным СМИ в республике свидетельствует случай, когда на первый дагестанский форум «Региональные СМИ в общероссийском информационном пространстве: векторы развития» не пропустили руководителя медиахолдинга ДУМД Патимат Гамзатову.
«К сожалению, ни один из этих вопросов [обсуждаемых на форуме], видимо, не касается исламской журналистики в регионе, которая здесь достаточно развита и представлена ведущими российскими изданиями, такими как журнал “Ислам”, газета “Ас-салам”, сайт Ислам.ру и пр. Журналисты этих изданий уже привыкли, что к ним и их изданиям порой относятся как к “мёртвым душам”, полагает редакционный коллектив Ислам.Ру»1.
Не случайно эксперт Центра исламских исследований Северного Кавказа Руслан Гереев отмечает, что в Дагестане нет эффективной системы отношений между религиозными деятелями и властями республики, из-за чего вести среди молодежи пропаганду традиционного ислама стало непросто, а его многочисленные общины политизированы. На фоне этих трудностей расширяется религиозная экспансия ваххабитов2.
Таким образом, мы можем констатировать, что сложившаяся система государственно-конфессиональных отношений в Дагестане не носит хар актер социального партнерства. Следовательно, можно говорить скорее о сепарационном типе светской модели государственно-конфессиональных отношений в республике. Государство ограничивается лишь эпизодическими контактами с религиозными объединениями в сфере противодействия экстремизму, предоставляет им возможность участвовать в рассмотрении вопросов, затрагивающих их интересы.
В целом утвердившийся в Республике Дагестан тип светской модели государственно-конфессиональных отношений не может и не должен быть таким «дистиллированным», а в соответствии с исторической ролью религии в регионе должен занять позицию партнерства по отношению к традиционным мусульманским общинам.
Не случайно сегодня и в государственных СМИ Республики Дагестан звучат идеи о том, что уполномоченные представители органов государственной власти и силовых ведомств практически повсеместно дистанцировались от проблем духовных управлений мусульман под предлогом законодательного отделения церкви от государства.
В сложившихся условиях представляется необходимым всеми возможными способами незамедлительно обеспечить консолидацию здоровых сил российского ислама, оказать им всемерную организационную, моральную и, при необходимости, материальную поддержку, сформировать и обеспечить применение всеми государственными органами единой политической линии в работе с мусульманскими организациями3.
Однако процесс налаживания социального партнерства в сфере государственноконфессиональных отношений должен быть двусторонним, чтобы не скатиться опять к сегрегационной (атеистической) модели, которая характеризуется безграмотным вмешательством чиновников во внутренние дела религиозных организаций.