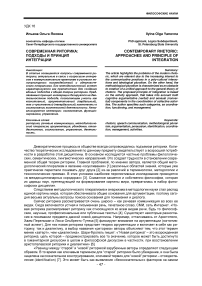Современная риторика: подходы и принцип интеграции
Автор: Ильина Ольга Яновна
Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica
Рубрика: Философские науки
Статья в выпуске: 3, 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье освещаются вопросы современной риторики, актуальные в связи с возросшим интересом к коммуникативным практикам в условиях поликультурных взаимодействий и идеологического плюрализма. Его методологический аспект характеризуется как препятствие для создания единых подходов к общей теории риторики. Предлагаемый принцип интеграции базируется на деятельностном подходе, позволяющем учесть как когнитивный, аргументативный (вербальный), так и чувственный (невербальный) компоненты в согласовании коллективной деятельности. Актуализируются категории: согласование, функционирование, управление.
Риторика, речевые коммуникации, методологический плюрализм, аргументация, убеждение, отождествление, согласование, управление, деятельность
Короткий адрес: https://sciup.org/14936656
IDR: 14936656 | УДК: 16
Текст научной статьи Современная риторика: подходы и принцип интеграции
Демократические процессы в обществе всегда сопровождались подъемом риторики. Количество теоретических исследований по данному предмету свидетельствует о возросшей потребности в разработке этой дисциплины. В основном исследуются частные проблемы филологических, семантических, лингвистических направлений. Это создает трудности в становлении современной общей теории риторики. Главной проблемой, по мнению автора, является общий методологический плюрализм и явление «окукливания» [1] различных областей знаний, которые уже практически перестали понимать друг друга [2] из-за различий в терминологии, методологии и технологических приемах. В этих условиях наиболее перспективные исследования проводятся «в междисциплинарных коридорах» [3]. Сказанное касается и собственно философии, которая из царицы наук, претендующей на формирование картины мира, превратилась в набор философских дисциплин.
Следствием методологического плюрализма и анархизма в методологии науки стал распад единой картины мира, которая обеспечивала общие основания для аргументации, поэтому сегодня весьма актуальны вопросы поиска оснований для понимания и диалога.
Сейчас риторика рассматривается очень широко – как речевая коммуникация во всех ее видах. Сюда включаются устная и письменная речь, печатаное слово, СМИ, сеть Интернет. «Новая риторика рассматривает риторику как относящуюся ко всем видам речи, будь то философские, научные, профессиональные или публичные тексты» [4]. Существуют некоторые разногласия в понимании предмета данной новой дисциплины. Например, отталкиваясь от Аристотеля, Хаим Перельман и Люси Ольбрехтс-Тутека [5] фиксируют внимание на аргументации (когнитивный аспект). Для них новая риторика предстает теорию аргументации и включает в себя как риторику, так и диалектику, а выбор названия «риторика» авторы объясняют тем, что этот термин менее «затерт», чем «диалектика». Шари Фрогель пишет: «“Новая риторика” – это возрожденная риторика, цель которой – продемонстрировать все то значение, которое может быть достигнуто в гуманитарной дискуссии в целом и философской дискуссии в частности, при восстановлении аристотелевской риторики и диалектики» [6].
«Разницу между “старой” и “новой” риторикой зарубежные авторы определяют следующим образом. В то время как ключевым термином для “старой” риторики было убеждение, и она была нацелена на сознательное конструирование, ключевой термин для “новой” риторики – отождествление (identification) [7]. Это может быть как выявление «бессознательных» факторов на самом - 47 - элементарном уровне, так и преднамеренный способ, когда говорящий соотносит свои интересы (отождествляет) с интересами аудитории» [8].
Авторы, желая оставаться в границах теории аргументации, пытаются расширить данное понятие тем, что включают в него невербальные убеждающие факторы. «Один из интенсивно обсуждаемых, представляющих интерес для эпистемологии, вопросов – вопрос о личностном знании в аргументации, аспектами которого являются проблема неявных, невыраженных предпосылок и проблема визуальной аргументации. <…> Стоит ли квалифицировать невербальные приемы как аргументативные? Является ли визуализация (наглядная агитация на языке пропаганды) лишь прояснением вербально-понимаемых смыслов или чем-то большим? Эти вопросы дискуссионные» [9]. Филологам удается уйти от них, поскольку их предмет непосредственно касается речи, то есть вербального, или когнитивного аспекта, при этом они используют термин «персуазивность» [10] (англ. persuasion – убеждение), таким образом, огораживая «чистоту своего предмета», избегая всех невербальных контекстов понятия «убеждение» и связанной с этим проблематики. Переход невербальных компонентов в вербальные (процесс осмысления в ходе создание текста) описывается в филологии в терминах окказиональных дериватов, что позволяет оставить чувственно-деятельностный компонент коммуникаций, создающий контекст смыс-лообразования за рамками исследований.
Новейшие разработки в теории риторики в поле логической проблематики рассматривают речь как действие: письмо или речь воспринимается с точки зрения его способности сделать что-то для людей – информировать их, убедить, просветить, изменять, развлечь, вдохновить. По этому поводу Л. Битцер определяет риторику как «режим изменения реальности, не прямое приложение энергии к объектам, но создание речи, которая изменяет реальность через посредничество мысли, приводящей к действию» [11]. В трактовке Битцера ситуационность риторики означает, что риторическое действие возникает как реакция на ситуацию подобно тому, как решение есть реакция на проблему. Список можно продолжать: концепция адресованности Кеннета Берка [12], концепция идентификации (отождествления) и т.д.
Стоит назвать концепцию атомарного коммуникативного акта [13], отражающую современный идеологический и культурный плюрализм. В результате мы видим пеструю мозаику, общий предмет которой определяется как речевая коммуникация и, может быть, убеждающая ее способность, если убеждение понимать достаточно широко: считать размышление и внутренний монолог как самоубеждение. Понятие «убеждение» смыкает нас с психологией. Это направленное воздействие на человека посредством аргументов, обращенное к сознанию. Этим убеждение отличается, например, от внушения, поскольку оно побуждает к действию через обращение к разуму. Психологи стремятся развести его с побуждением через обращение к чувствам, называя второй его вид мотивацией. По мнению автора, это не очень удачное название, так как мотивация формируется под воздействием внутреннего убеждения, и так называемая квазимотивация (задание, данное самому себе) наиболее устойчива. Поэтому автор уверенно считает мотивацию результатом убеждения, рассматриваемого как когнитивный процесс, который в свою очередь ответственен за управление. Здесь можно привлечь данные физиологии о функции коры головного мозга, второй сигнальной системы и прочего, принимающие участие в управлении. «Нет такого сигнала первой сигнальной системы, который не мог бы быть отменен второй» [14]. Речь с одной стороны является «посредником» между людьми, а с другой – она – проводник в процессах мышления. В коммуникации она проявляет себя как убеждающее действие, в когнитивных процессах выступает механизмом размышления и самоубеждения. Эта конструкция осуществляется в форме подведения своего опыта под какое-либо общее основание, принимаемое субъектом в качестве бесспорного. Она задействуется в процессе осмысления нового опыта или в ситуации необходимости принятия решения, выбора. Общими основаниями в современной поликультурной и полипарадигмальной ситуации («общими местами» – в терминологии Аристотеля) выступает набор смыслов и ценностей («технологии различных поступков»), значимых для субъекта [15] и в совокупности составляющих его образ мира. Они берутся из литературы, СМИ, из семьи и окружения. Частными «посылками» в таком «силлогизме» является допредикативный чувственный опыт субъекта, нуждающийся в интерпретации, общими посылками – имеющимися в арсенале субъекта ценности и «технологии». Очевидно, что понятия «посылки» и «силлогизм» автор использует не в чисто аристотелевском смысле, но апеллировать к Аристотелю и употреблять введенные им термины позволяет сама логика данных когнитивных технологий. В своем исследовании автор показывает, что конечной целью риторики, а значит и оценкой ее эффективности, начиная с античности и каждый раз в периоды ее подъема было продуктивное управление (сначала политическое, потом экономическое и т.д.). Область риторики традиционно определена как отношение «оратор→речь→аудитория» в конкретной социокультурной ситуации, где речь направлена на ее изменения, то есть на убеждение, цель которого – управление («убеждение→управление»). В качестве контраргумента приводится «неубеждающая» риторика, например, размышление, внутренний диалог или общение. Однако он имеет целью самоубеждение в ходе самооценки или ситуации выбора, а цель общения - обогатить имеющийся арсенал мнений о мире и вариантах поступков (то есть «общих мест» для аргументации). Оппоненты считают, что кроме формулы «убеждение→управление» в диалоговых практиках присутствуют и другие формы, например, прояснение позиций, которые также предполагают аргументацию (подведение оснований под мнение), но не ставят целью убедить оппонента в своем мнении и поэтому не связаны с управлением. Однако это не так. Целью прояснения, уточнения и согласования позиций является координация последующих действий, что, безусловно, относится к сфере коллективного самоуправления. Уточнение собственной позиции во внутреннем диалоге связано с выбором решения, а значит – с самоуправлением. Согласование позиций является наиболее эффективной коммуникативной практикой, в которой достигается не альтернатива, а компоновка различных «общих мест» (то есть смыслов и ценностей) с позиции многофункциональности коллективной деятельности.
Ссылки и примечания:
-
1. Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997; Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. М., 1998.
-
2. Марков А.А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные открытия и новые вопросы. М., 2010.
-
3. Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Указ. соч.
-
4. Encyclopedia of Rhetoric and Composition: Communication from Ancient Times to the Information Age / ed. by T. Enos. N.Y., 1996.
-
5. Perelman C., Olbrechts-Tyteca L. Traité de l'argumentation: La nouvelle rhétorique / trans. by J. Wilkinson and P. Weaver as The New Rhetoric. Notre Dame, 1969.
-
6. Frogel S. The Rhetoric of Philosophy. Philadelphia, 2005.
-
7. Термин «отождествление» (identification) рассматривается у Кеннета Берка.
-
8. Ross W. The Rhetorical Imagination of Kenneth Burke. Carolina, 2001.
-
9. Ibid.
-
10. Голоднов А.В. Персуазивность как универсальная стратегия текстообразования в риторическом метадискурсе: дис. … канд. филол. наук. СПб., 2011.
-
11. Bitzer L. The rhetorical situation // Philosophy and rhetoric. 1992. № 14.
-
12. Ross W. Op. cit.
-
13. Петков Т. От Остина и Бурдье – к логике молекулярных перформативов // Критика и семиотика. 2000. Вып. 1–2. С. 53–59.
-
14. Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии). СПб., 2007.
-
15. Минкинен Л.Д. Онтологические и теоретико-познавательные основания этического идеала: дис. … канд. филос. наук. СПб., 2006.