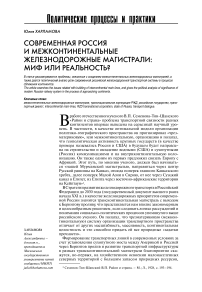Современная Россия и межконтинентальные железнодорожные магистрали: миф или реальность?
Автор: Харламова Юлия Александровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 2, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются проблемы, связанные с созданием межконтинентальных железнодорожных магистралей, а также дается политический анализ роли современной российской железнодорожной транспортной системы в процессе сближения континентов.
Межконтинентальные железнодорожные магистрали, транснациональная корпорация ржд, российское государство, транспортный диалог
Короткий адрес: https://sciup.org/170165734
IDR: 170165734
Текст научной статьи Современная Россия и межконтинентальные железнодорожные магистрали: миф или реальность?
В работе отечественного ученого В.П. Семенова-Тян-Шанского «Район и страна» проблема транспортной связности разных континентов впервые выведена на серьезный научный уровень. В частности, в качестве оптимальной модели организации политико-географического пространства он прогнозировал «чрез-материковую», или межконтинентальную, организацию и полагал, что геополитическая активность крупных государств (в качестве примера назывались Россия и США) в будущем будет направлена на строительство и овладение водными (США) и сухопутными (Россия) коммуникациями и на внутриконтинентальную колонизацию. Он также одним их первых предложил связать Европу с Африкой. Этот путь, по мнению ученого, должен был начинаться «нашей Мурманской магистралью, направиться через центр Русской равнины на Кавказ, отсюда поперек главного Кавказского хребта, далее поперек Малой Азии в Сирию, от нее через Суэцкий канал в Египет, из Египта через восточно-африканские территории на Кейптаун»1.
ХАРЛАМОВА Юлия
В Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года (государственный документ высшего ранга начала XXI в.) в качестве железнодорожных приоритетов современной России значится трансконтинентальная магистраль с выходом к Берингову проливу, что представляется нам вполне закономерным и целесообразным решением, если следовать логике рассуждений и понимания социально-политических процессов упомянутого выше российского ученого. Он полагал, что чрезматериковую (межконтинентальную) систему организации транспортного пространства отличает от других масштабность, массивность, континентальная целостность и это способно придать ей все природные «задатки прочности».
Формирование транспортных линий в современных условиях за счет установления сухопутного моста между Америкой и Россией через Берингов пролив и развитие транспортной инфраструктуры в рамках трансконтинентальной магистрали благоприятно скажутся, во-первых, на хозяйственном освоении малонаселенных северных территорий с большим запасом природных ресурсов, во-вторых, на интеграции транспортной системы России в глобальную железнодорожную сеть мира, где трансконтинентальная магистраль через Берингов пролив явится продолжением Транссиба на северо-восток, что даст ряд положительных социально-экономических, геополитических и геостратегических эффектов. Этот глобальный проект необходимо рассматривать комплексно, т.е. не только как строительство железной дороги с тоннельным переходом, а как сооружение в едином коридоре полимагистрали, включающей (помимо железнодорожной магистрали) автомагистраль, нефте- и газопроводы, линии электропередачи и оптико-волоконные линии. Сооружение трансконтинентальной магистрали способно не только дать «второе дыхание» Транссибу с включением в американский фрагмент глобальной железнодорожной сети мира, но и решить масштабную задачу, связанную с интеграцией России в мировое политико-экономическое пространство и укреплением позиции страны как на Западе, так и на Востоке, через новый толчок к социально-политическому и экономическому росту в направлении неосвоенного мирового северо-восточного пространственного вектора.
Транспортную систему России в общем и железнодорожную в частности с учетом глобализационных процессов необходимо рассматривать как неотъемлемую часть мировой транспортной системы, в соответствии с чем российский транспорт должен иметь возможность осуществлять гибкое и интегрированное взаимодействие с транспортными системами других стран.
Созданный современный геоэкономи-ческий мир стал, на наш взгляд, новым пределом международной политической системы. В этих условиях роль железнодорожного комплекса в осуществлении внешнеэкономических связей России требует четкой и прагматичной оценки со стороны национальной политической элиты, поскольку вовлечение транспорта в процессы глобализации предполагает его рассмотрение как важнейшего фактора внешнеполитических процессов. Некоторыми исследователями даже подчеркивается, что «капитализация железнодорожной транспортной инфраструктуры в мире, какой бы ни была инфляция, будет непрерывно, хотя и нелинейно нарастать. Это определяется тем, что именно желез- нодорожный транспорт на евразийском континенте, а также в перспективе как форма соорганизации других континентов вокруг Евразии, является технологией, обеспечивающей связность рынков»1.
Именно через Россию проходят самые короткие по времени доставки товаров сухопутные маршруты, а также функционирует достаточно высокоразвитая, вполне конкурентоспособная и надежная в эксплуатационном смысле железнодорожная транспортная система, которая соответствует потребностям современной планетарной технологической цивилизации, оформившейся в глобальную модель в части способности состыковаться в короткие сроки практически со всеми транспортно-коммуникационными линиями. Удачное и эффективное вхождение в мировую экономику для России может быть достигнуто только при наличии развитых коммуникационных систем, в частности железнодорожных, поскольку оси взаимодействия со странами – это, прежде всего, транспортная инфраструктура. Экспертами и специалистами подчеркивается: «В части, касающейся железнодорожного транспорта России, глобализация сети позволяет не только увеличить товарооборот России со странами мира, но и замкнуть основной грузопоток между ними на железные дороги России вообще и Сибири в частности»2. В целом реализация стратегической задачи развития транспортной системы России вызывает необходимость формирования на основе Транссиба сухопутных коридоров: Япония – Россия – Европа, Корея – Россия – Европа. Зарубежные эксперты также предрекают модернизированным российским железным дорогам большие перспективы и способность вызвать значительные изменения на мировом транспортном рынке в ближайшем будущем3.
В контексте обозначенных нами гео- стратегических перспектив не исчерпан и потенциал российско-японского сотрудничества, который видится как единственно возможный в формировании серьезных защитных рубежей от экспансии динамично развивающегося Китая. Геостратегическая и геополитическая ре-сурсоемкость Сахалина выражается в том, что он является российским пространством, которое выходит на Тихий океан. При этом сам Сахалин – это российский эксклав, т.е. в инфраструктурном плане – неразвитый регион, что создает дополнительные трудности для удержания этой территории за российским государством. Находясь в должности президента РФ, В.B. Путин подчеркивал взаимовыгодные перспективы превращения Японии в сухопутную державу, где Сахалин способен выполнять функции моста, соединяющего Транссиб с сетью железных дорог Японии.
Сухопутный железнодорожный путь от Японии до Европы также рассматривается японской деловой и политической элитой в качестве приоритетного направления (в связи с этим в Японии была создана достаточно влиятельная общественная организация «За соединение Японии с евразийским материком».
В рамках реализации прямого железнодорожного сообщения Япония – Россия – Европа необходимо сооружение тоннеля под проливом Лаперуза и соединение островов Сахалина и Хоккайдо для выхода на железнодорожную сеть Японии. В.B. Путин, осуществляя внешнеполитические контакты с японской стороной, заявлял, что «наряду с энергетикой многообещающей является такая сфера нашего сотрудничества, как транспорт, прежде всего совместное использование Транссибирской магистрали, а также создание на ее базе современной транспортной инфраструктуры, связывающей Дальний Восток через Россию с Европой. Речь может идти о строительстве тоннелей, которые связали бы Сахалин с Хоккайдо и материковой частью России. Я знаю, что в японских деловых кругах такая мысль родилась, она очень интересная и перспективная, капитальным образом изменила бы экономический потенциал как России, так и Японии, без всяких сомнений дала бы блестящую фору нашим соревнованиям на международной арене и создала бы просто другую обстановку – обстановку полной независимости от ресурсов для Японии, а для России создала бы обстановку реальной возможности к освоению тех ресурсов, которыми она рас-полагает»1.
Подчеркнем, что модель кооперационно-инвестиционного сотрудничества в транспортной и иных сферах наиболее полно отвечает как российским национальным интересам, так и сложившимся политическим реалиям сегодняшнего дня. Помимо очевидных выгод наращивания двусторонней торговли, на наш взгляд, целесообразным представляется поощрение прямых японских инвестиций в промышленность и инфраструктуру российских дальневосточных районов. Формирующаяся общность звеньев транспортной инфраструктуры – это важные и устойчивые предпосылки для развития дальнейших интеграционнополитических процессов, которые выгодны как для развивающейся современной России, так и для технологически развитой Японии.
По расчетам аналитиков, транзитный поток японских грузов в Европу способен приносить в российский бюджет до 20 млрд руб. ежегодно. Японские экспедиторы (потенциальные партнеры, ныне в основном конкуренты) полагают, что российские железные дороги должны обеспечивать значительное количество контейнеров для транзитных грузов, а также для двусторонних перевозок и решить все связанные с контейнерами проблемы, чтобы успешно конкурировать в привлечении транзитных грузов. В этой связи согласимся, что при необходимых инвестициях с задачами переоборудования существующих и производства новых типов специализированного под контейнерные перевозки подвижного состава вполне могут справиться отечественные транспортные машиностроители, например, ОАО «Промышленно-финансовая группа» «Росвагонмаш»2 и др., возможно, и совместные международные транспортно-промышленные холдинги.
В целом, оценивая столь масштабное значение железнодорожного проекта, важно отметить, что сближение позиций России и Японии позволило бы российской стороне создать импульс деловой активности на БАМе и реанимировать его. Кроме того, это позволит играть более заметную роль в процессах геополитического и геостратегического позиционирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где мнение Токио традиционно продолжает оставаться достаточно влиятельным. Таким образом, российское государство через транспортно-сетевую международную включенность получает эффективные ресурсы внешнеполитического позиционирования и влияния в мировом геоэкономически, геополитически и геостратегически значимом пространстве.
В нынешних условиях жесткой глобализации и одновременной слабости внутреннего инвестиционного потенциала России необходимо переходить на кооперационно-инвестиционную политическую модель делового сотрудничества с другими странами, тем более что различия в ресурсных возможностях государств могут быть выгодно использованы всеми участниками. Так, главными ресурсами Японии и Южной Кореи являются капитал и технологии, КНР – людские ресурсы и огромный рынок, но в то же время они бедны минеральными и энергетическими ресурсами и в скором времени окажутся достаточно зависимыми от импорта энергоносителей. Данное положение может быть использовано Россией, богатой не только природными ресурсами, но и имеющей прочную основу для реальной взаимной заинтересованности по технологическому сотрудничеству в сфере совместной реализации крупных инфраструктурных проектов, в частности в железнодорожной сфере.
В выстраивании моделей российских национальных приоритетов требуется определение миссии железнодорожного транспорта в ХХI в. через формулирование отработанной, гласной, приемлемой общественной идеи, определяющей целевой вектор государственной политики в данной сфере. В ее основу должна быть положена политическая стратегия геоэкономического прорыва России, где отразятся новые требования к развитию транспортных систем, обеспечивающих конкурентоспособность на мировом рынке транспортных услуг. В качестве государственного приоритета, на наш взгляд, может выступить транснациональная компания под условным названием «Российские железные дороги и железные дороги сопредельных стран». Она может стать хозяйственно-политической системой в виде устойчивых взаимосвязей между предприятиями, действующими на территории различных государств (например, сопредельных стран – участниц СНГ, поскольку эти независимые государства сохранили достаточную политическую, хозяйственную и культурную интегрированность друг с другом и с Россией, а также других заинтересованных стран, в частности, имеющих общую ширину колеи) в целях производства товаров (перевозки, транзитные услуги) и получения существенной доли транспортного мирового дохода при сохранении национального контроля над капиталом компании. На наш взгляд, в контексте определения приоритетных сфер российской транснационализации железнодорожная сфера по целому ряду причин относится к таковым. Данный тезис подтверждается и заявлениями высшего менеджмента ОАО «РЖД», подчеркивающими международную деятельность компании как приоритетную. Кроме того, именно по инициативе ОАО «РЖД» создан принципиально новый инструмент международной интеграции в сфере железнодорожного транспорта – международный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 1520», международный геополитический симпозиум «1520: Стратегический диалог» с участием стран СНГ, Балтии, а также Финляндии, Монголии, Польши, Франции, Германии.
Идея, связанная с созданием страновых транспортных мегаинфраструктур, способна не только экономически, но и социокультурно связать в одно целое разные континенты и цивилизации: европейскую, русскую, китайскую, индийскую, исламскую, японскую – иными словами, сформировать процесс диалога цивилизаций. Мы уверены, что развитие транспортной системы – тоже своеобразный диалог между различными государствами. Он не выходит на уровень религиозного или культурного диалога, но является научно-техническим диалогом, диалогом разных бизнесов, диалогом разных структур, которые занимаются профессиональной работой по развитию транспортного потенциала.