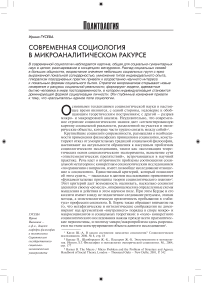Современная социология в микроаналитическом ракурсе
Автор: Гусева Ирина Ивановна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политология
Статья в выпуске: 5, 2008 года.
Бесплатный доступ
В современной социологии наблюдается картина, общая для социально-гуманитарных наук в целом: разочарование в концепциях мегауровня. Распад социальных связей в больших общностях, возрастание значения небольших социальных групп с ярко выраженной локальной солидарностью, умножение типов индивидуального опыта, плюрализм повседневных практик привели к возрастанию научного интереса к локальным формам социального бытия. Стратегии микроанализа открывают новые измерения и ракурсы социальной реальности, формируют модели, адекватные бытию человека в мире постсовременности, в котором индивидуализация становится доминирующей формой социализации личности. Эти глубинные изменения привели к тому, что «рассыпалось» единое поле социологии.
Короткий адрес: https://sciup.org/170164439
IDR: 170164439
Текст краткого сообщения Современная социология в микроаналитическом ракурсе
современная социологияв миКроаналитичесКом раКурсе
В современной социологии наблюдается картина, общая для социально-гуманитарных наук в целом: разочарование в концепциях мегауровня. Распад социальных связей в больших общностях, возрастание значения небольших социальных групп с ярко выраженной локальной солидарностью, умножение типов индивидуального опыта, плюрализм повседневных практик привели к возрастанию научного интереса к локальным формам социального бытия. Стратегии микроанализа открывают новые измерения и ракурсы социальной реальности, формируют модели, адекватные бытию человека в мире постсовременности, в котором индивидуализация становится доминирующей формой социализации личности. Эти глубинные изменения привели к тому, что «рассыпалось» единое поле социологии.
о сновными тенденциями социологической науки в настоящее время являются, с одной стороны, недоверие к обобщающим теоретическим построениям; с другой – разрыв микро- и макроуровней анализа. Неудивительно, что современное строение социологического знания дает «сегментированную картину социальной реальности, разделенной на участки и эмпирические объекты, которые часто трудно связать между собой»1.
ГуСЕВА Ирина Ивановна – к.ф.н., доцент кафедры фило софии и политологии Саратовского государственного социальноэкономического университета
Крупнейшие социологи современности, размышляя о необходимости применения философских принципов в социологии, констатируют отказ от умозрительных традиций социальной философии, настаивают на актуальности обращения к насущным проблемам социологического исследования, таким как экспликация теоретических основ социологического эксперимента, выяснение сути «эпистемологических препятствий», встречающихся в научной практике. Р-ечь идет о вторичности проблемы соотношения социальной метатеории с конкретным социологическим исследованием «по сравнению с вопросом, имеет ли вообще исследование отношение к социологии». Е-динственный критерий, который позволяет об этом судить, – насколько в данном исследовании применяются «фундаментальные принципы теории социологического знания»2. Этот критерий дает возможность оценивать, насколько социолог адекватен своему «ремеслу», опирающемуся на определенные схемы мышления и действия в этом научном поле. При этом Б-урдье и его коллеги имеют в виду не педантичное следование ритуалам, этапам метода, а эпистемологическую органичность пребывания в «габитусе» профессии социолога. Б-. Б-эрнс также обращает внимание на то, что метафизические и онтологические соображения не доминируют над аргументами «внутреннего» порядка в споре микро- и макросоциологов и социальных теоретиков: в «поле» конкретного социологического исследования важны прежде всего прагматические перспективы, и поэтому микро/макропроблема здесь разреша ется на этап е конструирования объекта данного исследования3.
Проблема соотношения микро- и макроракурсов исследования в социологии приобретает, пожалуй, даже более значимый характер, чем в исторической науке. По существу, именно эта проблема дает наиболее мощный импульс для современной рефлексии по поводу предмета социологии. Микроанализ социальных процессов зачастую порождает представление о возможности социологии без понятия общества. В наиболее радикальной формулировке вопрос звучит так: существует ли общество или оно является всего лишь эпифеноменом взаимодействия отдельных индивидов?1 Это социологическая версия проблемы «конца социального».
Социология, как и социальная метатеория, все время балансирует между подходами, связанными с приоритетом индивидуального начала в социальной жизни, и холистскими доктринами в различных их вариантах. Это неразрешимый спор. Е-сли оставаться на территории социологии и в пределах ее компетенции, – а она исследует конкретные формы социального, а не метафизические принципы его устройства, – то методологическая дилемма «индивидуализм – холизм» интересна не возможностью ее преодоления в пользу одного из подходов, но теми эффективными стратегиями исследования, которые складываются в период доминирования одной из противоположных установок. В настоящее время более популярны подходы, основанные на принципах индивидуализма, ориентированные на локальные формы бытия социального. Видный западный социолог К. Кнор-Цетина, констатируя активное развитие направлений социологии, в которых изучаются микропроцессы социальной жизни, и объединяя все эти исследования общим термином микросоциология, оценила ситуацию как вызов, брошенный микросоциологией макросоциологии. Сегодня, спустя четверть века после этого заявления, можно оценить некоторые итоги этого вызова.
Микроаналитическая направленность исследовательских стратегий в современной социологии задана «феноменологическим поворотом» в социальных науках.
Этот поворот связан с изменением статуса философии, освобождением социальных наук от метафизических конструкций, их стремлением постичь природу социального, обращаясь к миру повседневности и обыденности. Главное в феноменологическом проекте методологии социально-исторического анализа – понять, как формируется социальное знание, как оно «произрастает» из жизненного мира человека.
Поворот, инициированный микросоциологией, связан с отказом от таких методологических концепций, как коллективизм и индивидуализм и утверждением методологического ситуационизма. В эпицентре исследования оказываются «мелкомасштабные» социальные ситуации. Только в этом случае, полагают адепты микросоциологии, исследователь оказывается на надежной почве, а не во власти спекулятивных схем. Только знание микропроцессов является фундаментом для последующих макросоциологи-ческих исследований.
Необходимость проникновения в субъективные смыслы, диктуемая микроаналитическими подходами в разных их воплощениях, требует применения соответствующих методов анализа и исследовательских техник. Одним из главных результатов «микросоциологического вызова стали актуализация и необычайная популярность качественных методов в социологии. Появился даже специальный термин: «качественная социология». К качественной, или, как ее еще часто называют, гуманистической социологии обычно относят феноменологическую социологию, социологию Ч-икагской школы, этнометодологию, символический интеракционизм, концепцию социальной драматургии. Для всех этих направлений характерна своего рода «всеядность»: в мире человеческих взаимодействий значимо все, и все нуждается в дешифровке; нет ничего, что было бы «недостойно» научного исследования и не представляло бы интереса для социолога, будь то дневники, автобиографии, мемуары, письма, судебные дела, ответы на анкету, архивные материалы, газеты, карты, фотографии. Главное – исследовать, как микросубъек-тивные факторы приводят к социальнозначимым результатам.
В.В. Семенова, автор пионерской работы по этой проблематике в отечественной литературе, однозначно связывает статус гуманистической социологии и вырабатываемых ею качественных методов с переходом от макро- к микроанализу социальной жизни: «Микроанализ – это удобное «научное поле», территория для исследований повседневного опыта как с точки зрения культурного дискурса, коммуникации, так и с точки зрения мотиваций и социально-психологических особенностей взаимодействия субъектов»1. Принципиально важна оценка качественной социологии – с точки зрения методологии – как микросоциологии.
Итак, качественноеисследованиенаправ-лено на изучение социального микромира. Оно представляет собой исследование конкретных людей в конкретных жизненных ситуациях. Как и в случае микроистории, микроанализ в социологии не означает забвения больших социальных общностей. Смена ракурса исследования ведет к тому, что закономерности функционирования социальных структур и институтов открываются через призму жизненных судеб и жизненного опыта конкретных акторов. Здесь недопустимо усреднение, обычное в макросоциологии, когда статус различных социальных групп рассматривается как примерно одинаковый при абстрагировании от того, почему они оказались на столь близких социальных позициях. Гуманистическую социологию интересует, какие мотивы, какие личностные, семейные выборы привели к тому, что жизненные «маршруты» оказались именно такими и в итоге именно так определилось место в социальной иерархии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Таким образом, вариативность человеческого поведения, неизбежное разрушение социального стереотипа, связанного с выполнением той или иной социальной роли, выступают не как допустимые «погрешности», а по существу становятся онтологическим фундаментом этой исследовательской стратегии. Гуманистический потенциал качественной социологии связывают также с эффективностью ее методов в тех случаях, когда происходят «разрывы» в мире повседневности: когда социальные потрясения деформируют устойчивые структуры повседневных практик.
Показательно, что в концепциях исследователей, которые отнюдь не отождест- вляют себя с движением микросоциологии, смена микро- и макроракурсов анализа и обусловленная ими игра познавательных стратегий занимают одно из ведущих мест в их научном арсенале. Одним из ярких примеров является, на наш взгляд, концепция классика современной социологии Н. Элиаса.
Как и многие его коллеги, Элиас говорит о необходимости преодоления натурализма в социологии. Он отмечает «овеществляющий» характер традиционных языковых средств. «Семья», «школа», «государство» выступают как объекты, подобно объектам природного мира. Социальные структуры предстают как предметы «по ту сторону» отдельного «я» («предмет» социологии). В противовес этому он предлагает «образ множества индивидов, которые связаны между собой разнообразнейшими видами отношений и создают переплетения и конструкции с более или менее устойчивым балансом сил, как, например, семьи, школы, города, социальные слои или государства»2. Начиная от межличностного уровня и заканчивая межгосударственным, все пространство социальной жизни пронизывают эти «переплетенные» взаимозависимости и связанная с ними борьба за власть.
В более поздних работах Элиаса появляется центральное понятие его социологии – понятие «фигурация». В разных смысловых полях оно приближается к таким понятиям, как «структура», «устройство», «социальный институт», «социальная система», «общественное образование»; как практически синонимичные ему употребляются словосочетания «сеть взаимозависимостей», «сетка взаимосвязей». Думается, что выведение строгой дефиниции понятия «фигурация», которой нет в работах самого Элиаса, – отнюдь не главное. Гораздо более важно, каким образом представление о фигурации влияет на техники исследования в социологии и истории.
Здесь уместно вспомнить призыв Эмиля Дюркгейма: история должна быть микроскопом социологии, именно ей могут открыться структуры, невидимые для взгляда социолога. Этому ходу мысли созвучны размышления Иммануила Валлерстайна: социологический анализ не будет иметь силы без помещения данных внутрь исторического контекста, равно как и историческое исследование без использования концептуального аппарата социологии. Ч-арльз Тилли, настаивая на необходимости «перекроить социологию в целом», видит главный смысл этой трансформации в том, что социология, «всерьез» воспринявшая историческую размерность, «реализует свой потенциал как история настоящего»1. Об этом же – о возможности социологии только «на почве истории» – писал видный отечественный историк А-.И. Неусыхин. Социологи в современной Р-оссии говорят об исторической социологии как об одном из фундаментальных разделов социологической науки, основной задачей которого является решение проблемы соотношения микро- и макро- в социосфере2.
Сам Элиас усматривал преимущество понятия фигурации по сравнению с понятием системы в том, что первое в отличие от второго не указывает ни на радикальную замкнутость, ни на внутреннюю гармонию и является нейтральным, т.к. может быть отнесено и к гармоничным, и к напряженным отношениям между людьми. Исследование структуры социальных сплетений «может прийти к таким результатам, которые можно представить в форме модели взаимозависимостей, модели фигурации. Лишь с помощью таких моделей можно перепроверить и приблизить к объяснению сферу свободы выбора каждого отдельного индивида в цепочках взаимозависимостей, сферу его автономии и его индивидуальную стратегию поведения»3. Р-ассматривая придворное общество XVII–XVIII вв. как самый репрезентативный социальный институт того времени, Элиас показывает, как в манерах, церемониале, этикете королевского двора проявлялись его фигурации, указывая на действовавшие рычаги господства и распределения власти.
В этом же направлении развивается исследовательская стратегия Лорана Тевено и Люка Б-олтански, которых назы- вают наследниками дюркгеймовской традиции после смерти Б-урдье. Они предложили свою версию прагматического поворота в социологии. Фигурациям Элиаса – цепочкам взаимозависимости людей – близко представление Тевено о множественности способов координации. Проводя исследования в области экономики и социологии и будучи координатором различных исследовательских групп, Тевено солидаризируется с выводом о неудовлетворительности чисто рационалистической модели человека, выделяя и анализируя такие «нерациональные» причины действий агентов, как вдохновение, традиции, общественное мнение, солидарность, прогноз будущего. В его концепции центральной становится идея перехода от одного способа координации (или «режима вовлеченности») к другому.
С точки же зрения исследовательской стратегии, здесь вновь появляется очень значимая в контексте современного социально-гуманитарного знания тема варьирования масштаба анализа. Исследователь, по Тевено, изучает переходы между мирами, отыскивает смыслы, скрывающиеся за различными способами обоснования, и по ходу анализа наталкивается на следующую проблему: значимое в одной системе обоснования оказывается всего лишь фоновым «шумом» в другой. Таким образом, «деталь» – это не просто мелкий объект, для которого техника микроанализа становится своеобразным увеличительным стеклом. Деталь – это то, что при переходе в другую систему смысловых координат, в другой «режим вовлеченности» может обрести статус несущей конструкции. Смена ракурса исследования – в данном случае, исследования социолого-экономического – и призвана это обнаружить.
Таким образом, когда речь идет о микросоциологии, под «микро» не следует иметь в виду узость теоретических интересов, концентрацию исследования на «мелких» проблемах, выводящую за рамки собственно социологического анализа, в сферу социальной психологии или теории малых групп. «Микроракурс» здесь означает установку исследования на изучение конструирования социальной реальности в процессах совместной деятельности и коммуникации людей, действующих в конкретных обстоятельствах.