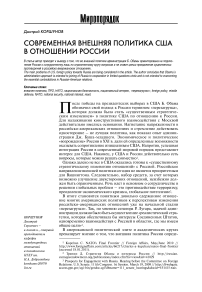Современная внешняя политика США в отношении России
Автор: Коршунов Дмитрий Сергеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Миропорядок
Статья в выпуске: 6, 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье автор приходит к выводу о том, что во внешней политике администрация Б. Обамы ориентирована на подключение России к сотрудничеству лишь по ограниченному кругу вопросов и не ставит целью преодоление существенных противоречий в российско-американских отношениях.
Внешняя политика, про, нато, национальная безопасность, национальный интерес, "перезагрузка"
Короткий адрес: https://sciup.org/170165881
IDR: 170165881
Текст научной статьи Современная внешняя политика США в отношении России
П осле победы на президентских выборах в США Б. Обама обозначил свой подход к России термином «перезагрузка», которая должна была стать «существенным стратегическим изменением» в политике США по отношению к России. Для налаживания конструктивного взаимодействия с Москвой действительно имелись основания. Нагнетание напряженности в российско-американских отношениях и стремление действовать односторонне – не лучшая политика, как показал опыт администрации Дж. Буша-младшего. Экономическое и политическое «возрождение» России в XXI в. дали ей определенные возможности оказывать сопротивление инициативам США. Напротив, успешная интеграция России в современный мировой порядок представляет интерес для США. Наконец, у США и России действительно есть вопросы, которые можно решать совместно1.
Однако далеко не все в США оказались готовы к «существенному стратегическому изменению отношений» с Россией. Российское направление внешней политики сегодня не является приоритетным для Вашингтона. Следовательно, набор средств, за счет которых возможно улучшение двухсторонних отношений, неизбежно должен быть ограниченным. Речь идет в основном о сотрудничестве в решении глобальных проблем – это противодействие терроризму, преодоление экономического кризиса, глобальное потепление2.
КОРШУНОВ Дмитрий
Сергеевич – к.полит.н., старший преподаватель кафедры международных отношений и политологии НГЛУ им.
В итоге становится понятным довольно сдержанное отношение многих американских политиков к перспективам изменения российско-американских отношений уже на начальной стадии «перезагрузки». Так, по мнению сенатора Р. Лугара, задачей администрации должно было быть осуществление «реалистической стратегии, которая обеспечивала бы интересы Соединенных Штатов, одновременно взаимодействуя с Россией в областях, где мы имеем общие цели»3.
В американской политической элите и академических кругах превалирует мнение о том, что внешняя политика России опреде- ляется рядом факторов, ограничивающих возможности сотрудничества между Вашингтоном и Москвой. Первым таким фактором является недемократический характер российского политического режима. Предполагается, что во внешней политике недемократические государства проводят более агрессивный курс, ведут себя недружественно по отношению к демократиям (и к США в том числе) и склонны воспринимать международную реальность с позиции «игры с нулевой суммой».
Второй фактор – экспансионизм, характерный как для имперского, так и для советского периодов российской истории, и востребованный современным политическим руководством в Москве. Эксперт фонда «Наследие» А. Коэн характеризует российское политическое руководство как «квазисоветское, или неосоветское с хорошим слоем российского империализма»1. Даже в лучшем случае России требуется длительный период адаптации к «постимперскому» статусу, в течение которого Соединенным Штатам следует жестко выступать против подхода, основанного на разделении «сфер влияния» в мире. В этой связи попытки России представить страны СНГ в качестве своего внешнеполитического приоритета резко критикуются в США.
Еще одним фактором, определяющим, с позиции американского руководства, динамику российского внешнеполитического поведения, являются цены на энергоносители. Их повышение приводит к большей самостоятельности России в международных делах. Падение же объясняет дискуссии о модернизации, избавлении от сырьевой зависимости, стремлении к международному сотрудничеству. В США опасаются, что политика модернизации может оказаться недолговечной, и Россия предпочтет вновь следовать жесткой линии поведения в условиях завершения мирового кризиса и повышения спроса на энергоносители2.
Для анализа российского направления внешней политики США представляется целесообразным уделить внимание американскому курсу в отношении регионов, находящихся в непосредственной близости от России, т.к. именно здесь зачастую возникают основные противоречия между этими странами.
В Европе интересы России и США сталкиваются в вопросах расширения НАТО и развертывания системы ПРО. В американской политической элите существует консенсус относительно того, что Украина и Грузия могут стать членами НАТО в будущем, причем мнение России по данному вопросу не может быть решающим. Предполагается, что расширение НАТО соответствует российским интересам, поскольку приведет к образованию в соседних с Россией регионах «демократических, процветающих и стабильных» государств. Тот факт, что Москва никак не может понять этих выгод для себя, считается инерцией советского мышления. Такой курс может стать дестабилизирующим фактором в российско-американских отношениях.
Озабоченность стран Запада проблемами энергетической безопасности может еще более увеличить напряженность и так непростых отношений между Россией и НАТО. Так, сенатор Р. Лугар неоднократно выступал с предложением расширить спектр функций НАТО, включив в него задачу обеспечения энергетической безопасности, чтобы страна, страдающая от сознательного срыва поставок энергии, приравниваемого к военному нападению, могла рассчитывать на помощь партнеров по альянсу3. Антироссийский характер этого предложения очевиден с учетом того, что в США ответственность за «газовые войны» между Россией и Украиной возлагается исключительно на первую.
Учитывая представления американских политиков о фундаментальном антиамериканизме российского внешнеполитического поведения, любые предложения со стороны России по модернизации международной системы безопасности воспринимаются как стремление повысить собственный вес на мировой арене в ущерб США. Так, предложения Д.А. Медведева о создании новой европейской архитектуры безопасности США интерпретировали как попытку создать противовес НАТО и обеспечить российские интересы1.
ПРО остается актуальной проблемой американской внешней политики. Пересмотр плана предыдущей администрации объясняется в США, конечно, не уступкой России, а его внутренним несовершенством. По заявлению министра обороны США Р. Гейтса, «российское поведение и возможная реакция не играли никакой роли» в принятии решения2. В частности, указывается, что новая система ПРО сможет быть развернута быстрее (начало планируется на 2011 г.), охватит большее число государств (в состав новой архитектуры ПРО могут быть включены также Япония и Южная Корея), способна обеспечить защиту не только от Ирана, но и от Северной Кореи.
Ситуацию осложняет то, что американские эксперты не видят военной необходимости в сотрудничестве с Россией в области ПРО. Взаимодействие с Россией может преследовать политические цели, например продемонстрировать Ирану, что его ядерные амбиции не находят поддержки ни у США, ни у России. Планы администрации Б. Обамы вызывают обоснованные опасения в Москве: система ПРО предполагает возможность перехвата ракет большой дальности, составляющих основу российских стратегических ядерных сил, что трактуется Москвой не просто как политический вызов, но и как военная угроза3.
Сложностью отличаются отношения России и США на постсоветском пространстве. По словам эксперта Центра стратегических и международных исследований США Э. Кьючинса, политика США в отношении соседей России будет оставаться «наиболее напряженным пунктом»
в российско-американских отношениях4. Подход США предполагает, что «перезагрузка» не может быть осуществлена за счет ухудшения отношений между США и их партнерами. Администрация Б. Обамы осознает, что позиции России и США по поводу Грузии диаметрально отличаются. США выражают свою приверженность курсу на восстановление «территориальной целостности» Грузии невоенными средствами. Действовать предполагается, с одной стороны, за счет усиления дипломатического давления на Россию с целью заставить ее вернуть войска на довоенные позиции и предоставить свободный доступ международных наблюдателей на территорию Абхазии и Южной Осетии. С другой стороны, США намерены оказывать поддержку Грузии, чтобы, сделав эту страну «процветающей и демократической», превратить ее в своеобразный «магнит» для Абхазии и Южной Осетии5.
Политика США в отношении стран Средней Азии также чревата конфликтами с Россией. Регион играет значимую роль в проведении операции США в Афганистане, т.к. через него проходят маршруты поставок снаряжения и оборудования для американских войск. С учетом увеличения американского контингента в Афганистане и повышенной опасности поставок через Пакистан, Средняя Азия становится еще более важной. В Вашингтоне считают, что Москва пытается оказывать определяющее влияние на внешнюю политику среднеазиатских государств, что не соответствует интересам США. «Перезагрузка» отношений с Россией не является достаточным основанием для отказа от давления на нее с целью снизить воздействие Москвы на правительства стран Средней Азии. С точки зрения энергетической безопасности целью США в регионе является диверсификация поставок энергоносителей. Вашингтон планирует увеличение инве- стиций в строительство трубопроводов в обход России.
Здесь налицо желание США заполнить «вакуум силы», образовавшийся в результате снижения российского влияния. Вероятно, такой подход встретит сопротивление со стороны России, стремящейся к тому, чтобы играть значимую роль в определении внешнеполитических связей среднеазиатских республик.
Осложняютсяроссийско-американские отношения и по поводу Арктики. Согласно Стратегии национальной безопасности Б. Обамы, США имеют «широкие и фундаментальные» интересы в Арктике – от национальной безопасности до научных исследований1. США понимают, что Арктика будет привлекать к себе все большее внимание по мере таяния льдов, открывающего возможности использования природных ресурсов и северных морских маршрутов. Символические жесты России (установка российского флага на морском дне на Северном полюсе) вызывают беспокойство США2.
Администрация Дж. Буша-младшего придерживалась мнения, что США могут действовать и независимо от других государств для защиты своих интересов в Арктике. Следует помнить, что определенный компонент односторонности признается и действующей администрацией Б. Обамы. Американская политика в Арктике может приобрести динамику по мере преодоления последствий финансового кризиса. США уже активизировали деятельность средств ПВО, нацеленных на перехват российской стратегической авиации в Арктике, и усилили присутствие атомного подводного флота в Баренцевом море. Не присоединившиеся к Конвенции ООН по морскому праву США могут использовать НАТО для укрепления своих позиций в регионе3.
Несмотря на то, что стремление России усилить взаимодействие с Китаем в рамках идеи многополярного мира вызывает настороженность в США, у американских политиков нет существенных опасений по поводу возможности образования действенной антиамериканской оси Москва – Пекин. С позиции США, Россия и Китай стремятся к реализации собственных интересов, и их сотрудничество носит ограниченный характер, что дает Вашингтону возможность играть на противоречиях. Например, рост влияния Китая в Средней Азии до определенной степени даже на руку США, поскольку создает для республик региона реалистичную альтернативу ориентации на Москву4.
Таким образом, сегодня вряд ли возможно говорить о каком-либо едином стратегическом курсе США в отношении России. Политика США представляет собой прагматическую попытку привлечь Россию к совместному партнерству в решении ограниченного круга вопросов глобального характера. Однако Россия как региональная держава является в значительной степени проблемой для США, особенно с учетом того, что региональные приоритеты и ставка на защиту национальных интересов являются более важными для России, чем сотрудничество в области глобальных проблем. Сегодня можно говорить о том, что российско-американские отношения во многих аспектах оказались не «перезагруженными», а «перегруженными» противоречиями, преодолеть которые вряд ли под силу действующей американской администрации, учитывая, что это изначально не входило в ее планы.