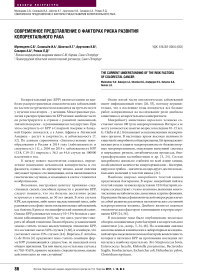Современное представление о факторах риска развития колоректального рака
Автор: Мулендеев С.В., Соловьв И.А., Шостка К.Г., Арутюнян К.В., Сахаров А.А., Роман Л.Д.
Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center
Рубрика: Обзоры литературы
Статья в выпуске: 3 т.12, 2017 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/140188710
IDR: 140188710 | УДК: 616.351-006.6
Текст статьи Современное представление о факторах риска развития колоректального рака
УДК: 616.351-006.6 (063)
Сахаров А.А.2, Роман Л.Д.2
-
1 Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург
-
2 Ленинградский областной онкологический диспансер, Санкт-Петербург
THE CURRENT UNDERSTANDING OF THE RISK FACTORSOF COLORECTAL CANCER
Колоректальный рак (КРР) является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний: по частоте встречаемости он находится на третьем месте у мужчин и на втором – у женщин. Межстрановые различия в распространенности КРР велики: наиболее часто он регистрируется в странах с развитой экономикой, значительно реже – в развивающихся государствах. При этом смертность от КРР в Северной Америке и Западной Европе снижается, а в Азии, Африке и Латинской Америке – растут и смертность, и заболеваемость [7, 52]. По данным справочника «Злокачественные новообразования в России в 2014 году (заболеваемость и смертность)» [1], с 2004 по 2014 г. заболеваемость КРР (С18, С19–21) выросла с 36,3 до 44,6 случая на 100000 населения в год.
К началу нового тысячелетия сложилось определенное понимание механизмов канцерогенеза и его фазности, однако по-прежнему неясно, какие явления запускают процесс его инициации, когда накапливаются генетические мутации, и изменения в клетке становятся необратимыми.
Возможно, выстраивая цепочку причинно-следственных связей, способных привести к развитию КРР, следует помнить, что эта болезнь достаточно редко встречается у молодых, до 50 лет людей. В этих случаях КРК, как правило, либо имеет наследственный генез, либо развивается на фоне таких воспалительных заболеваний, как болезнь Крона и неспецифический язвенный колит. Однако КРР развивается только у 10–15% больных с данными заболеваниями [60], так что здесь уместнее говорить об общей этиологии. Таким образом, установленной можно считать только наследственную этиологию КРР, что составляет около 5,0% случаев [3, 60], и семейную, что составляет около 25% случаев [44]. Впрочем, F. Armelao, G. de Pretis [6] предлагают пока считать семейную форму КРР развивающейся сущностью, не нашедшей пока общего признания. Так или иначе, все остальные случаи, а их 70,0–95,0%, принято называть спорадическими, однако действительно ли они случайны?
Около пятой части онкологических заболеваний имеет инфекционный генез [20, 55], поэтому неудивительно, что в последние годы появляется все больше работ, направленных на исследование роли дисбиоза кишечника в колоректальном канцерогенезе.
Микробиоту кишечника взрослого человека составляет около 100 трлн. микроорганизмов. Интерес к ее месту в гомеостазе заметно возрос в последние 10–15 лет. G. Clarke et al. [16] называют ее недооцененным эндокринным органом. В настоящее время высокая значимость кишечной микробиоты общепризнанна. Ей принадлежит важная роль в защите макроорганизма от болезнетворных микроорганизмов, модуляции иммунной системы и циркадных ритмов, метаболических процессах, биотрансформации ксенобиотиков и др. [5, 24]. Состав микробиоты довольно стабилен по всей длине кишки, но абсолютное количество микроорганизмов – бактерий, вирусов и грибов – значительно варьирует, достигая наибольших значений в толстой кишке [24].
Наиболее широко микробиота толстой кишки представлена бактериями. В норме микробный пейзаж толстой кишки человека представлен 1014 бактерий, которые сосуществуют с телом-хозяином, выполняя многочисленные метаболические, иммунные и другие функции. Нарушение баланса физиологической микросреды влечет за собой развитие различных патологических состояний макроорганизма-хозяина. Дисбиоз является важным этиологическим фактором в инициации и прогрессировании КРР [24, 56].
В последние годы было опубликовано несколько обзоров, посвященных роли бактерий в колоректальном онкогенезе [см., напр., 5, 24, 48]. На основании анализа многочисленных клинических и лабораторных исследований авторы выделили несколько бактерий, вовлеченность которых в патогенез КРР на протяжении последних лет изучалась наиболее пристально. Это Streptococcus bovis, Enterococcus faecalis, Klebsiella pneumoniae, Bacteroides fragilis, Fusobacterium, Escherichia coli. Helicobacter pylori, Clostridium septicum.

Streptococcus bovis (S. bovis) – грамположительные бактерии, которые являются нормальными обитателями желудочно-кишечного тракта, хотя обнаруживаются лишь у 5–35% взрослых людей [41]. Еще в середине XX века была отмечена связь между бактеремией S. bovis и КРР [цит. по: 25]. Транслокация бактерий из желудочно-кишечного тракта в кровь может произойти либо при выполнении врачебных манипуляций, либо вследствие повышения проницаемости кишечной стенки. Биотип I S. bovis, получивший название S. gallolyticus, чаще всего ассоциируется с КРР. По данным A.Boleij et al. [9], в 60,0% случаев бактеремия S. gallolyticus коморбидна КРР. В 2016 г. J. Butt et al. [13] подтвердили значимость ассоциации между КРР и реакцией антител на S. galloly-ticus у пациентов с КРР.
Enterococcus faecalis (E. faecalis) – вид энтерококков, грамположительных факультативных анаэробных бактерий, входящий в состав нормальной микрофлоры пищеварительного тракта человека. Обладают высокой медикаментозной устойчивостью, способны переносить широкий диапазон колебаний рН и температуры. В норме доля E. faecalis в микробиоте толстой кишки взрослого человека не превышает 1,0 %. Одной из наиболее вероятных причин расширения присутствия E. faecalis является антибиотикотерапия. В 2016 г. Y. Zhou et al. [62] опубликовали результаты изучения ассоциаций онкогенных бактерий и КРР. Авторы сообщают, что E. faecalis определялся в 95,9% образцов тканей колоректальной опухоли и 93,8% образцов прилежащих здоровых тканей.
Klebsiella pneumoniae (K. Pneumoniae) – вид условнопатогенных грамотрицательных факультативно-анаэробных бактерий. Относится к нормальной микробиоте, однако нередко становится причиной опасных заболеваний. Обладает высокой медикаментозной устойчивостью. Мы не нашли работ, прямо указывающих на ее участие в онкогенезе КРР, однако доказано, что у лиц с гнойным абсцессом печени, вызванным K. pneumonia, риск развития КРР повышается в 2,5–4,0 раза [31, 34].
Bacteroides fragilis (B. Fragilis) – вид грамотрица-тельных анаэробных бактерий, обладающих высокой медикаментозной устойчивостью. Их доля в микробиоте толстой кишки в норме не превышает 1,0–2,0%. В исследовании A. Boleij et al. [10] показано, что количество колоний энтеротоксигенных B. fragilis в слизистой оболочке толстой кишки больных КРР достоверно выше такового у здоровых людей и, кроме того, оно увеличивается с возрастом больных и сроком существования опухоли. R.V. Purcell et al. [53] указывают на значимые ассоциации энтеротоксигенных B. fragilis у пациентов с вялотекущей дисплазией слизистой оболочки толстой кишки, трубчатой аденомой, зубчатыми полипами и, наконец, колоректальной опухолью, и выдвигают гипотезу о том, что токсигенные штаммы этого вида бактерий могут быть ключевым игроком в инициировании изменений, которые, в конечном счете, приводят к КРР.
Fusobacterium – анаэробные грамотрицательные неспорообразующие бактерии. Хотя ранее их иногда относили к нормальной микробиоте ротовой полости, в настоящее время ее рассматривают как высокоинвазивный патоген. В ряде работ представлены доказательства корреляции между Fusobacterium и развитием КРР на всех стадиях онкогенеза [22, 49]. Однако вопрос о том, вызывает ли микроорганизм болезнь или просто расширяет свое присутствие в созданной ею среде, остается открытым [5].
Escherichia coli (E. coli) – вид грамотрицательных бактерий, факультативных анаэробов, входящих в состав нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта (менее 1,0 %). E. coli включает 13 патогенных штаммов, в том числе adherent invasive E. coli (AIEC) [57]. Расширяя свое присутствие в кишечнике при дисбиозе, AIEC проникает в эпителиальные клетки и разрушает их, вызывая барьерную дисфункцию и участвуя в патогенезе болезни Крона. Исследование M. Bonnet et al. [11], в которое были включены пациенты с КРР на разных стадиях развития болезни и (в качестве группы контроля) пациенты, прооперированные по поводу дивертикулеза, показало, что уровень E. coli, ассоциированной с опухолью, выше, чем в слизистой оболочке здоровой ткани. Кроме того, показано, что патогенные штаммы E. coli более распространены на слизистой оболочке толстой кишки пациентов с III и IV стадиями рака, чем с I-й.
Helicobacter pylori (H. pylori) – спиралевидная грамо-трицательная бактерия, инфицирующая различные области слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки. Все формы гастрита, а также метаплазия кишечника, аденома, лимфома и аденокарцинома, вызванные H. pylori, имеют значимую связь с повышенным риском неоплазмы толстой кишки [37, 61]. Резюмируя результаты предыдущих исследований потенциальной связи H. pylori и КРР, V.Papastergiou et al. [50] замечают: «С тех пор, как H. pylori была признана причиной рака желудка, наблюдается возрастающий интерес к исследованию его потенциальной роли в колоректальном канцерогенезе. … Показано, что вызванные H. pylori гастриты связаны с повышенным риском развития колоректальной неоплазии, однако патогенные механизмы, ответственные за эту ассоциацию, остаются необъясненными».
Clostridium – полиморфные грамположительные бес-капсульные бактерии. Относятся к оппортунистическим болезнетворным микроорганизмам. Clostridium septicum производят различные экзотоксины, включая α -, β -, γ - и ∆-токсины, которые при попадании в кровоток вызывают мгновенный (молниеносный) сепсис. Попадание бацилл из кишечника в кровоток возможно при перфорации во время диагностической или хирургической процедуры, однако идеальным порталом является раковая опухоль, поскольку ее анаэробная среда оптимальна для бактериального роста, а вызванное опухолью изъязвление слизистой допускает перемещение бактерий из кишечника в кровоток. Clostridium septicum более чем в 80,0% случаев ассоциирована с колоректальной опухолью [43, 46].
Роль ДНК-содержащих вирусов (полиомавирусов, папилломавирусов и герпесвирусов), в развитии таких онкологических заболеваний, как карцинома Меркеля, рак шейки матки, лимфома Беркитта, лимфома Ходжкина, рак носоглотки, признается многими специалистами [см., напр., 5, 14, 20]. В последние годы появляются исследования, авторы которых стремятся доказать связь вирусной инфекции и КРР.
Вирусы из семейства герпесвирусов относятся к наиболее распространенным во всем мире. Они способны латентно персистировать в клетке организма человека сколь угодно долго, а некоторые из них – прежде всего, вирус простого герпеса, цитомегаловирус и вирус Эпштейна-Барра – при определенных условиях способствовать ее мутации и участвовать в процессе онкогенеза. J. Dimberg et al. [21] в своем исследовании показали, что ДНК цитомегаловируса достоверно чаще выявляется в ткани колоректальной опухоли, чем в прилежащих здоровых тканях. H.-P. Chen et al. [15] полагают, что цитомегаловирусы участвуют в колоректальном онкогенезе через механизмы онкомодуляции.
Папилломавирусы человека (HPV) – это группа родственных вирусов, в которой выделяют две подгруппы: передаваемые и не передаваемые половым путем. Среди первых, в свою очередь, выделяют HPV высокого и низкого риска развития онкологических заболеваний. Из 12 HPV высокого риска наиболее опасными признаются HPV 16 и 18 [26]. HPV связывают прежде всего с онкологическими заболеваниями половых органов, полости рта, дыхательных путей. В последние годы появились работы, свидетельствующие о том, что папилломавирус человека значительно чаще обнаруживается в теле колоректальной опухоли, нежели в прилежащих здоровых тканях толстой кишки [40], а в целом у больных КРР – чаще, чем у здоровых людей [8, 51].
Семейство безоболочечных вирусов – полиомавиру-сов – включает 4 рода и 76 видов. Из 13 полиомавирусов человека с КРР связывают JCPyV. Как правило, JCPyV попадает в человеческий организм с пищей и/или водой и, благодаря устойчивости к низким значениям pH, инфицирует кишечник. Как указывают S. Delbue et al. [20], JCPyV обычно приобретается в раннем возрасте; инфекция легко становится хронической и долгое время может оставаться латентной; вирус способен изменять нормальную прогрессию клеточного цикла. По данным X. Mou et al. [46], F. Ksiaa et al. [33], JCPyV обнаруживается в тканях колоректальной опухоли достоверно чаще, чем в прилежащих здоровых тканях толстой кишки.
Многочисленные клинические наблюдения и экспериментальные исследования убедительно показали, что HPV из группы высокого риска и JCPyV представляют собой мощный канцероген. Тем не менее, рост опухоли на фоне заражения папилломавирусом или полиомавирусом является редким, и для запуска процесса малигнизации необходимы некие дополнительные условия. Очевидно, что ни папилломавирусы 16 и 18, ни полиомавирус JCPyV не вписываются в концепцию прямой причинно-следственной связи и тем более не могут рассматриваться как фактор риска развития КРР в силу своей широчайшей распространенности. Вирусы могут принимать участие в патогенезе КРР на разных его этапах как прямо, так и опосредованно. Участие вирусной инфекции в онкогенезе многогранно. Прежде всего, хронические инфекции имеют выраженный иммуносупрессивный эффект. Хроническая инфекция, которая развивается в течение длительного времени, способна инициировать клеточные изменения, предрасполагающие к прогрессии рака. При воздействии физических, химических и/или экологических факторов риска на организм хроническая инфекция способна стать триггером в процессе трансформации здоровых клеток [15, 18, 20]. Некоторые эффекты могут быть преходящими, и это еще больше усложняет попытки установления прямой связи между вирусным заражением и КРР. В любом случае, как указывают T.R. Coelho et al. [18], нет никаких оснований – ни эпидемиологических, ни патофизиологических – отрицать роль вирусной инфекции только на том основании, что ее роль не конкретизирована.
Что касается грибов, то мы нашли лишь одно прямое упоминание о них в контексте КРР. М.А. Старостина с соавт. [2] сообщают, что при исследовании микробиоты пациентов с КРР в 7,6% случаев было выявлено значительное (на 1–2 порядка) превышение содержания дрожжеподобных грибов Candida. Однако обнаруживаются некоторые косвенные связи изменений кишечной микобиоты и КРР. Так, эти изменения происходят при болезни Крона [28, 39], которая, как известно, является одним из наиболее серьезных факторов риска развития КРР.
Применение новых технологий в микробиологии позволило получить свидетельства широкого участия микробиоты толстого кишечника в канцерогенезе. Механизмы ее воздействия по-прежнему остаются неясными, однако в любом случае они вторичны по отношению к причинам нарушения динамического равновесия в микробном пейзаже толстой кишки. В качестве основных из них называют пищевые предпочтения, возраст, неблагоприятную экологическую обстановку, коморбидные заболевания, хронический вялотекущий воспалительный процесс, нарушения иммунитета, антибиотики [17, 19]. Как правило, на микробиоту кишечника действуют одновременно несколько из перечисленных факторов и, в свою очередь, каждый из этих факторов так или иначе связывают с КРР.
Поскольку спорадический КРР, как правило, развивается в старших возрастных группах, необходимо учитывать возрастные сдвиги в составе кишечной микробиоты – снижение микробного разнообразия и рост соотношения Firmicutes / Bacteroidetes [19, 47].
С 40-х гг. прошлого века, когда антибиотики вошли в клиническую практику, эти препараты без преувеличения спасли миллионы жизней, а их разработка и производство превратились в мощную индустрию [35]. Антибиотики

нашли широкое применение не только в медицине, но еще и в сельскохозяйственной и пищевой промышленности. Между тем, со временем все яснее стали проявляться опасные свойства антибитикотерапии, и прежде всего – ее влияние на микробиоту кишечника. Даже краткосрочное лечение антибиотиками может привести к долгосрочным дисбиотическим состояниям, которые характеризуются потерей таксономического и функционального разнообразия микробиоты в сочетании со снижением сопротивляемости колонизации патогенными микроорганизмами. Под действием антибиотиков, особенно широкого спектра действия, бактерии-симбионты уступают место патогенным микроорганизмам – не только бактериям, но также вирусам и грибам, а такие симбионты, как E. faecalis, B. fragilis, S. bovis, K. pneumoniae, E. coli, расширяют свое присутствие и становятся патобионтами [23, 36].
К числу экологических факторов, оказывающих неблагоприятное воздействие на здоровье человека, в первую очередь относятся: работа на вредных производствах и проживание в их 2–3-х км зоне; побочные эффекты препаратов, применяемых для обеззараживания питьевой воды, медикаментозных и пищевых добавок, используемых в скотоводстве и птицеводстве, пестицидов и химических удобрений, используемых в растениеводстве, и др. Воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды приписывают развитие различных заболеваний: ожирение, диабет 2 типа, онкологические заболевания (в том числе КРР), нарушения регуляции иммунной и репродуктивной систем [42].
Роль диеты в модуляции состава микробиоты кишечника и ее функций не вызывает сомнений. Диета является главным и, что особенно важно, управляемым фактором окружающей среды, влияющим на состав микробиома [19]. Наиболее распространенный вид пищевого поведения, ведущий к кишечному дисбиозу, – это нерациональное питание, приводящее к ожирению. При этом растет соотношение Firmicutes / Bacteroidetes, увеличиваются доли Methanobrevibacter smithii и Lactobacillus, снижается присутствие Bifidobacteria и E. coli [4]. Радикальные изменения пищевых предпочтений как в развитых, так и развивающихся странах, стали одним из важнейших следствий глобализации. Эти изменения выражаются в резком увеличении потребления жареных мясных продуктов и углеводов глубокой степени очистки на фоне снижения потребления овощей, фруктов и цельного зерна. В свою очередь, глобализация пищевых предпочтений ведет к глобализации неинфекционных хронических заболеваний и некоторых онкологических заболеваний – возможно, через ожирение или даже просто избыточный вес [59]. Ожирение является признанным фактором риска КРР. Каждые 5 кг массы сверх нормального повышают риск КРР 4,0% [58]. Жировая ткань, к функциям которой в течение долгого времени относили накопление энергии, терморегуляцию и механические функции защиты, в настоящее время признана в качестве эндокринного и метаболического органа.
Превышение некоторой критической массы жировых отложений в области живота запускает вялотекущий воспалительный процесс. По мнению S. Harlid et al. [27], между хроническим вялотекущим воспалительным процессом и колоректальным канцерогенезом существует отчетливая связь.
Вялотекущий воспалительный процесс запускает каскад метаболических нарушений, состав которых в каждом отдельном случае уникален, поскольку определяется индивидуальными особенностями человека – его наследственностью, образом жизни и коморбидностью. Так формируется метаболический синдром [32]. Многие исследователи находят значимой роль метаболического синдрома в колоректальном канцерогенезе [27].
В свою очередь, вялотекущий воспалительный процесс и метаболический синдром образуют некий замкнутый круг, взаимно потенцируя друг друга. Для обозначения таких состояний в 2006 г. был предложен термин «metaflammation» – метавоспаление [29, 30].
Такие патологические состояния, как абдоминальное ожирение, хроническое вялотекущее воспаление, метаболический синдром и кишечный дисбиоз тесно связаны друг и другом. Причинно-следственные связи между ними могут выстраиваться по-разному. С одной стороны, растет количество данных, свидетельствующих о значительном вкладе микробиоты кишечника в развитие ожирения и метаболических нарушений [см., напр., 12, 54]. С другой стороны, возможно и другое развитие событий. Каскад изменений «абдоминальное ожирение → хроническое вялотекущее воспаление → метаболический синдром» предшествует многим неинфекционным хроническим заболеваниям сердечно-сосудистой системы, легких, почек, а также диабету. Неудивительно, что эти заболевания так часто становятся коморбидными КРР. Распространенность коморбидности растет по мере старения населения. По данным N.J. van Leersum et al. [38], в период с 1995 по 2010 г. коморбидность увеличилась с 46,5 до 61,6%, мультиморбидность – с 19,6 до 36,5%. То есть, если в 1995 г. сопутствующие заболевания были у 66,1% больных КРР, то в 2010 г. – практически у каждого (98,1%).
Развитие КРР примерно в 5,0% случаев принято объяснять наследственностью. Однако и здесь мы не можем сказать с полной уверенностью, что при наличии наследственной предрасположенности КРР неизбежен. Рак многофакторен, его развитие определяется рядом трансформаций, которые последовательно вносят свой вклад в фенотип опухоли. Эта фенотипическая сложность существенно затрудняет определение конкретных ролей для биологических агентов, которые можно было бы считать канцерогенными, и еще труднее определить их причинно-следственные связи и значение на определенных этапах канцерогенеза.
К настоящему времени накоплено множество свидетельств важности роли кишечной микробиоты в колоректальном онкогенезе. Механизмы, способные привести к
кишечному дисбиозу, разнообразны. В их числе называют применение антибиотиков широкого спектра действия, которые расчищают площадку для микроорганизмов с повышенной медикаментозной устойчивостью; хронический вялотекущий воспалительный процесс, который может быть инициирован абдоминальным ожирением, воздействием неблагоприятных экологических факторов окружающей среды, и/или вредными поведенческими привычками; угнетение иммунитета и др. Эти факторы можно объединить в иерархические уровни, из которых выстраивается последовательность событий, приводящих к развитию КРР.
Поскольку спорадические формы КРР в подавляющем большинстве случаев развиваются у лиц старше 50 лет, и это единственный этиологический фактор, на который повлиять невозможно, мы ставим его на I иерархический уровень.
На II уровне – гиподинамия, неправильное питание, плохая экология и побочные эффекты применения антибиотиков.
На III уровне – системное вялотекущее воспаление, которое может развиться в результате каждого из факторов второго уровня.
На IV уровне – метаболические нарушения, инициированные системным вялотекущим воспалением, формирующие метаболический синдром.
На V уровне – метавоспаление.
На VI уровне дисбиотические изменения (угнетение нормальной микробиоты, перерождение симбиотантов в патобиотанты, колонизация толстой кишки патогенными микроорганизмами
На VII уровне – хронические воспалительные заболевания кишечника (например, болезнь Крона).
На VIII уровне – собственно КРР.
В этой последовательности необходимо выделить отдельную «ветку» от V уровня и разместить там хронические неинфекционные заболевания и угнетение иммунитета, которые негативно сказываются на состоянии макроорганизма и, таким образом, вносят свой вклад в развитие КРР.
Возможен и другой сценарий, согласно которому дисбиоз, вызванный побочными эффектами антибиотиков, неправильным питанием и/или неблагоприятными экологическими факторами, способствует абдоминальному ожирению и/или системному вялотекущему воспалению.
Многофакторность КРР требует мультидисци-плинарного подхода. Многочисленные подтверждения важности роли кишечной микробиоты, которую она играет на разных этапах канцерогенеза, требуют участия гастроэнтерологов и микробиологов в диагностическом и лечебном процессе. Оставленный без внимания дисбиоз способен свести на нет результаты блестяще проведенной операции, курса радио- и/или химиотерапии, приведя к рецидиву или запустив процесс распространения метастазов.
Список литературы Современное представление о факторах риска развития колоректального рака
- Злокачественные новообразования в России в 2014 году (заболеваемость и смертность)/Под ред. А.Д.Каприна, В.В.Старинского, Г.В.Петровой. -М.: МНИОИ им.П.А.Герцена -филиал ФГБУ "НМИРЦ" Минздрава России, 2016. -250 с.
- Старостина М.А. Биоценоз кишечника у больных колоректальным раком/М.А.Старостина, З.А.Афанасьева, М.С.Губаева и др.//Практич. медицина. -2012. -№ 61. -С. 97-99.
- Циммерман Я.С. Колоректальный рак: современное состояние проблемы/Я.С.Циммерман//Рос. журн. гастроэнтерол. гепатол. колопроктологии. -2012. -Т. 22, № 4. -С. 5-16.
- Aloua M.T. Diet influence on the gut microbiota and dysbiosis related to nutritional disorders/M.T.Aloua, J.-C.Lagiera, D.Raoult//Nutrients. -2015. -Vol. 7, N 1. -P. 17-44.
- Antonic V. Significance of infectious agents in colorectal cancer development/V.Antonic, A.Stojadinovic, K. E.Kester//J. Cancer. -2013. -Vol. 4, N 3. -P. 227-240.
- Armelao F. Familial colorectal cancer: A review/F.Armelao, G. de Pretis//World J. Gastroenterol. -2014. -Vol. 20, N 28. -P. 9292-9298.
- Arnold M. Global patterns and trends in colorectal cancer incidence and mortality/M.Arnold, M.S.Sierra, M.Laversanne et al.//Gut. -2016. -http:// href='contents.asp?titleid=16607' title='Gut'>Gut.bmj.com/cont-ent/early/2016/01/05/Gutjnl-2015-310912.
- Bernabe-Dones R.D. High prevalence of human papillomavirus in colorectal cancer in hispanics: A case-control study/R.D.Bernabe-Dones, M.Gonzalez-Pons, A.Villar-Prados//Gastroenterol. Res. Pract. -2016. -Vol. 2016. -Art. ID 7896716. -8 p.
- Boleij A. Clinical importance of Streptococcus gallolyticus infection among colorectal cancer patients: systematic review and meta-analysis/A.Boleij, M.M. van Gelder, D.W.Swinkles et al.//Clin. Infect. Dis. -2011. -Vol. 53, N 9. -P. 870-878.
- Boleij A. The Bacteroides fragilis toxin gene is prevalent in the colon mucosa of colorectal cancer patients/A.Boleij, E.M.Hechenbleikner, A.C.Goodwin et al.//Clin. Infect. Dis. -2015. -Vol. 60, N 2. -P. 208-215.
- Bonnet M. Colonization of the human gut by E. coli and colorectal cancer risk/M.Bonnet, E.Buc, P.Sauvanet et al.//Clin. Cancer Res. -2014. -Vol. 20, N 4. -P. 859-867.
- Boulangé C.L. Impact of the gut microbiota on inflammation, obesity, and metabolic disease/C.L.Boulangé, A.L.Neves, J.Chilloux et al.//Genome Med. -2016. -Vol. 8, N 1. -Art. 42.
- Butt J. Association of Streptococcus gallolyticus subspecies gallolyticus with colorectal cancer: Serological evidence/J.Butt, B.Romero-Hernândez, B.Pérez-Gómez et al.//Int. J. Cancer. -2016. -Vol. 138, N 7. -P. 1670-1679.
- Chen H. Viral infections and colorectal cancer: A systematic review of epidemiological studies/H.Chen, X.-Z.Chen, T.Waterboer et al.//Int. J. Cancer. -2015. -Vol. 137, N 1. -P. 12-24.
- Chen H.-P. Identification of human cytomegalovirus in tumour tissues of colorectal cancer and its association with the outcome of non-elderly patients/H.-P.Chen, J.-K.Jiang, C.-Y.Chen et al.//J. Gen. Virol. -2016. -Vol. 97. -P. 2411-2420.
- Clarke G. Minireview: Gut microbiota: the neglected endocrine organ/G.Clarke, R.M.Stilling, P.J.Kennedy et al.//Mol. Endocrinol. -2014. -Vol. 28, N 8. -P. 1221-1238.
- Clemente J.C. The impact of the gut microbiota on human health: an integrative view/J.C.Clemente, L.K.Ursell, L.W.Parfrey, R.Knight//Cell. -2012. -Vol. 148, N 6. -P. 1258-1270.
- Coelho T.R. JC virus in the pathogenesis of colorectal cancer, an etiological agent or another component in a multistep process?/T.R.Coelho, L.Almeida, P.A.Lazo//Virol. J. -2010. -Vol. 18, N 7. -Art. 42.
- Conlon M.A. The impact of diet and lifestyle on gut microbiota and human health/M.A.Conlon, A.R.Bird//Nutrients. -2015. -Vol. 7, N 1. -P. 17-44.
- Delbue S. Review on the role of the human Polyomavirus JC in the development of tumors/S.Delbue, M.Comar, P.Ferrante//Infect. Agents Cancer. -2017. -Vol. 12, N 10. -https://infectagentscancer.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13027-017-0122-0.
- Dimberg J. Detection of cytomegalovirus DNA in colorectal tissue from Swedish and Vietnamese patients with colorectal cancer/J.Dimberg, T.T.Hong, M.Skarstedt et al.//Anticancer Res. -2013 -Vol. 33, N 11. -P. 4947-4450.
- Flanagan L. Fusobacterium nucleatum associates with stages of colorectal neoplasia development, colorectal cancer and disease outcome/L.Flanagan, J.Schmid, M.Ebert et al.//Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. -2014. -Vol. 33, N 8. -P. 1381-1390.
- Francino M.P. Antibiotics and the human gut microbiome: Dysbioses and accumulation of resistances/M.P.Francino//Front Microbiol. -2015. -Vol. 6. -Art. 1543. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4709861/.
- Gagnière J. Gut microbiota imbalance and colorectal cancer/J.Gagnière, J.Raisch, J.Veziant et al.//World J. Gastroenterol. -2016. -Vol. 22, N 2. -P. 501-518.
- Galdy S. Streptococcus bovis and colorectal cancer/S.Galdy//Infection and cancer: Bi-Directorial Interactions. -Springer International Publishing, 2015. -Part II. -P. 231-241.
- Ghittoni R. Role of human papillomaviruses in carcinogenesis/R.Ghittoni, R.Accardi, S.Chiocca, M.Tommasino//Ecancermedicalscience. -2015. -Vol. 9. -Art. 526.
- Harlid S. The metabolic syndrome, inflammation, and colorectal cancer risk: An evaluation of large panels of plasma protein markers using repeated, prediagnostic samples/S.Harlid, R.Myte, B.Van Guelpen//Med. Inflam. -2017. -Vol. 2017. -Art. ID 4803156. -9 p. -https://doi.org/10.1155/2017/4803156.
- Hoarau G. Bacteriome and mycobiome interactions underscore microbial dysbiosis in familial crohn’s disease/G.Hoarau, P.K.Mukherjee, C.Gower-Rousseau et al.//MBio. -2016. -Vol. 7, N 5. -pii: e01250-16.
- Hotamisligil G.S. Inflammation and metabolic disorders/G.S.Hotamisligil//Nature. -2006. -Vol. 444, N 7121. -P. 860-867.
- Hotamisligil G.S. Inflammation, metaflammation and immunometabolic disorders/G.S.Hotamisligil//Nature. -2017. -Vol. 542, N 7640. -P. 177-185.
- Huang W.K. Higher rate of colorectal cancer among patients with pyogenic liver abscess with Klebsiella pneumoniae than those without: an 11-year follow-up study/W.K.Huang, J.W.Chang, L.C.See et al.//Colorectal Dis. -2012. -Vol. 14, N 12. -P.e794-801.
- Jung U.J. Obesity and its metabolic complications: the role of adipokines and the relationship between obesity, inflammation, insulin resistance, dyslipidemia and nonalcoholic fatty liver disease/U.J.Jung, M.S.Choi//Int. J. Mol. Sci. -2014. -Vol. 15, N 4. -P. 6184-5223.
- Ksiaa F. Assessment and biological significance of JC polyomavirus in colorectal cancer in Tunisia/F.Ksiaa, A.Allous, S.Ziad et al.//JBUON. -2015. -Vol. 20, N 3. -P. 762-769.
- Lai H.C. Increased incidence of gastrointestinal cancers among patients with pyogenic liver abscess: a population-based cohort study/H.C.Lai, C.C.Lin, K.S.Cheng et al.//Gastroenterology. -2014. -Vol. 146, N 1. -P. 129-137.
- Langdon A. The effects of antibiotics on the microbiome throughout development and alternative approaches for therapeutic modulation/A.Langdon, N.Crook, G. Dantas/Genome Med. -2016, -Vol. 8, N 1. -Art. 39.
- Lange K. Effects of antibiotics on gut microbiota/K.Lange, M.Buerger. A.Stallmach, • T. Bruns//Dig. Dis. -2016. -Vol. 34, N 3. -P. 260-268.
- Lee J.Y. Helicobacter pylori Infection with atrophic gastritis is an independent risk factor for advanced colonic neoplasm/J.Y.Lee, H.W.Park, J.Y.Choi et al.//Gut Liver. -2016. -Vol. 10, N 6. -P. 902-909.
- van Leersum N.J. Increasing prevalence of comorbidity in patients with colorectal cancer in the South of the Netherlands 1995-2010/N.J. van Leersum, M.L.Janssen-Heijnen, M.W.Wouters et al.//Int. J. Cancer. -2013. -Vol. 132, N 9. -P. 2157-2163.
- Liguori G. Fungal dysbiosis in mucosa-associated microbiota of crohn’s disease patients/Liguori G., Lamas B., Richard M.L. et al.//J. Crohns. Colitis. -2016. -Vol. 10, N 3. -P. 296-305.
- Liu F. Prevalence of human papillomavirus in Chinese patients with colorectal cancer/F.Liu, X.Mou, N.Zhao et al.//Colorectal Dis. -2011. -Vol. 13. -P. 865-871.
- Lopes P.G. Novel real-time PCR assays using TaqMan minor groove binder probes for identification of fecal carriage of Streptococcus bovis/Streptococcus equinus complex from rectal swab specimens/P.G.Lopes, V.V.Cantarelli, G.Agnes et al.//J. Clin. Microbiol. -2014. -Vol. 52, N 3. -P. 974-976.
- López-Abente G. Colorectal cancer mortality and industrial pollution in Spain/G.Löpez-Abente, J.Garcfa-Pérez, P.Fernândez-Navarro et al.//BMC Public Health. -2012. -Vol. 12. -Art. 589. -12 p.
- Mao E. Clostridium septicum sepsis and colon carcinoma: report of 4 cases/E.Mao, A.Clements, E.Feller//Case Rep. Med. -2011. -Vol. 2011. -Art. ID 248453. -3 p. -https://www.hindawi.com/journals/crim/2011/248453/.
- Marmol I. Colorectal carcinoma: A general overview and future perspectives in colorectal cancer/I.Marmol, C.Sanchez-de-Diego, A.Pradilla Dieste//Int. J. Mol. Sci. -2017. -Vol. 18. N 1. -Art. 197.
- Mou X. Prevalence of JC virus in Chinese patients with colorectal cancer/X.Mou, L.Chen, F.Liu et al.//PLoS One. -2012. -Vol. 7. -Art. e35900.
- Nanjappa S. Clostridium septicum Gas Gangrene in Colon Cancer: Importance of Early Diagnosis/S.Nanjappa, S.Shah, S.Pabbathi//Case Rep. Infect. Dis. -2015. -Vol. 2015. -Art. ID 694247. -3 p. -https://www.hindawi.com/journals/criid/2015/694247/.
- Nicholson J.K. Host-gut microbiota metabolic interactions/J.K.Nicholson, E.Holmes, J.Kinross et al.//Science. -2012. -Vol. 336, N 6086. -P. 1262-1267.
- Nistal E. Factors determining colorectal cancer: The role of the intestinal microbiota/E.Nistal, N.Fernandez-Fernandez, S.Vivas, J.L.Olcoz//Front. Oncol. -2015. -Vol. 5. -Art. 220. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4601259/.
- Nosho K. Association of Fusobacterium nucleatum with immunity and molecular alterations in colorectal cancer/K.Nosho, Y.Sukawa, Adachi Y. et al.//World J. Gastroenterol. -2016. -Vol. 22, N 2. -P. 557-566.
- Papastergiou V. Helicobacter pylori and colorectal neoplasia: Is there a causal link?/V.Papastergiou, S.Karatapanis, S.D.Georgopoulos//World J. Gastroenterol. -2016. -Vol. 22, N 2. -P. 649-658.
- Pelizzer T. Colorectal cancer prevalence linked to human papillomavirus: a systematic review with meta-analysis/T.Pelizzer, C.P.Dias,J.Poeta et al.//Rev. Bras. Epidemiol. -2016. -Vol. 19, N 4. -http://dx.doi.o DOI: rg/10.1590/1980-5497201600040009
- Pourhoseingholi M.A. Epidemiology and burden of colorectal cancer in Asia-Pacific region: what shall we do now?/M.A.Pourhoseingholi//Translational Gastrointestinal Cancer. -2014. -Vol. 3, N 4. -http://tgc.amegroups.com/article/view/4445/5581.
- Purcell R.V. Colonization with enterotoxigenic Bacteroides fragilis is associated with early-stage colorectal neoplasia/R.V.Purcell, J.Pearson, A.Aitchison et al.//PLoS One. -2017. -Vol. 12, N 2. -Art. e0171602.
- Sanmiguel C. Gut microbiome and obesity: A plausible explanation for obesity/C.Sanmiguel, A.Gupta, E.A.Mayer et al.//Curr. Obes. Rep. -2015. -Vol. 4, N 2. -P.250-261.
- Schottenfeld D. The cancer burden attributable to biologic agents/D.Schottenfeld, J.Beebe-Dimmer//Ann Epidemiol. -2015. -Vol. 25, N 3. -P. 183-187.
- Sears C.L. Microbes, microbiota, and colon cancer/C.L.Sears, W.S.Garrett//Cell Host Microbe. -2014. -Vol. 15, N 3. -P. 317-328.
- Shawki A. Mechanisms of intestinal epithelial barrier dysfunction by adherent-invasive Escherichia coli/Shawki A., D.F.McCole//Cell. Mol. Gastroenterol. Hepatol. -2017. -Vol. 3, N 1. -P. 41-50.
- Schlesinger S. Body weight gain and risk of colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis of observational studies/S.Schlesinger, W.Lieb, M.Koch et al.//Obes. Rev. -2015. -Vol. 16, N 7. -P. 607-619.
- Singh R.B. Globalization of dietary wild foods protect against cardiovascular disease and all cause mortalities? A scientific statement from the International College of Cardiology, Columbus Paradigm Institute and the International College of Nutrition/R.B.Singh, F.DeMeester, D.Pella et al.//Open Nutraceuticals J. -2009. -N 2. -P. 42-45.
- Sobhani I. Microbial dysbiosis and colon carcinogenesis: could colon cancer be considered a bacteria-related disease?/I.Sobhani, A. Amiot, Yann Le Baleur et al.//Thera.p Adv. Gastroenterol. -2013. -Vol. 6, N 3. -P. 215-229.
- Sonnenberg A. Helicobacter pylori is a risk factor for colonic neoplasms./A.Sonnenberg, R.M.Genta//Amer. J. Gastroenterol. -2013. -Vol. 108, N 2. -P. 208-215.
- Zhou Y. Association of oncogenic bacteria with colorectal cancer in South China/Y.Zhou, H.He, H.Xu et al.//Oncotarget, -2016. -Vol. 7, N 49. -P. 80794-80802.