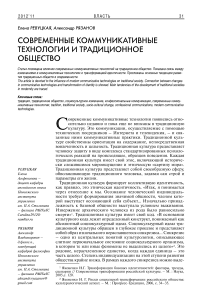Современные коммуникативные технологии и традиционное общество
Автор: Ревуцкая Елена Альфонсовна, Рязанов Александр Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Коммуникации и общество
Статья в выпуске: 11, 2012 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена влиянию современных коммуникативных технологий на традиционное общество. Показана связь между изменениями в коммуникативных технологиях и трансформацией идентичности. Прослежены основные тенденции развития традиционных обществ в современности.
Традиция, традиционное общество, социокультурное изменение, конфессиональные коммуникации, современные коммуникативные технологии
Короткий адрес: https://sciup.org/170166132
IDR: 170166132
Текст научной статьи Современные коммуникативные технологии и традиционное общество
С овременные коммуникативные технологии появились относительно недавно и пока еще не вписаны в традиционную культуру. Это коммуникации, осуществляемые с помощью технических посредников – Интернета и телевидения, – и связанные ними коммуникативные практики. Традиционной культуре свойственны ориентация на содержание, непосредственная вовлеченность и цельность. Традиционная культура предоставляет человеку защиту в виде комплекса стандартизированных психологических реакций на происходящее, образцов поведения. Каждая традиционная культура имеет свой этос, включающий исторически сложившиеся мироощущение и этническую «картину мира». Традиционная культура представляет собой своеобразную сферу, обволакивающую традиционного человека, задавая сам строй и параметры его жизни.
Традиционная культура формирует коллективную идентичность, как правило, это этническая идентичность. «Итак, я понимается через отнесение к мы. Осознание человеческой индивидуальности требует формирования значимой общности, членом которой выступает осознающий себя субъект… Изначально принадлежность к базовой общности выступала условием выживания. Извержение архаического человека из рода было равносильно смерти»1. Традиционная культура имеет свой код. «В основании культурного кода лежит определенный конструкт, понимаемый как абсолютный социокультурный идеал. Социокультурный идеал традиционной культуры обращен в глубокое прошлое и представляет собой образ изначального нераспавшегося синкрезиса… Синкрезис – одно из центральных понятий культурологии, описывающее слитное первоначальное состояние социокультурного организма, в котором те или иные феномены не выделились из целого»2. Это родовое, нерасчлененное единство, когда каждая единица – это часть целого. Степень индивидуализации на этой ступени развития общества крайне низка. В рамках каждого синкрезиса можно выде- лить экономическую, социальную, коммуникативную сферы, взаимодействие которых обеспечивает его целостность и постоянство.
Коммуникативная сфера представляет собой совокупность приемов, транслирующих и закрепляющих необходимые навыки экономического и социального поведения, а также ритуалы и ценности. В результате последующего развития происходит выход этих сфер за пределы син-крезиса, их усложнение и фрагментация. В данном случае для нас представляет интерес выход коммуникативной сферы. С появлением более сложных социальных образований, не совпадающих с родом, например племени и государства, коммуникативная сфера перестраивается, и ее правильнее называть коммуникативным пространством. Это переустройство касается не только появления новых коммуникативных практик, но и целей и содержания самой коммуникации. В них все явственнее проявляется манипулятивная составляющая.
Дробление и усложнение воспринимается носителем традиционной культуры как отход от идеала синкрезиса. Именно поэтому среди многих народов и культур существуют в различных вариантах мифы о золотом веке. Традиционная культура функционирует в нутр и цивилизации. Она «вбирает в себя и сохраняет элементы архаической культуры, которые в процессе развертывания истории время от времени способны активизироваться и даже вытеснять более поздние слои культуры»1.
В рамках традиционной культуры образцом для подражания был старший. Ориентируясь на него, как на образец, молодой человек проходил социализацию в первичном коллективе. Для этого этапа развития исключительную важность имели внутриэтнические коммуникации, которые часто имели сакральный характер и, соответственно, были освящены традицией.
С усложнением социальной структуры общества появились коммуникации, не направленные на сохранение рода или первичного коллектива. Эти коммуникации имели целью интеграцию множества первичных коллективов в единое целое. Так появились и окрепли вертикальные коммуникации. Им нужна была объединяющая идея – герой, общие боги, государство. Точнее, новым центрам силы нужны были объединяющие в единое целое коммуникативные потоки. Это могли быть и конфессиональные коммуникации, скреплявшие людей символами веры. Конфессиональные коммуникации находились в сложных отношениях с более ранними коммуникациями. «Представляя собой объяснительную модель происходящего в мире, религия, ставшая господствующей в данном обществе, получившая поддержку высших сословий, надстраивается над этнической культурой. Таким образом, превращенное коммуникативное пространство этноса получает прививку другой духовной культуры, усваивает новые для себя сюжеты, стереотипы, аксиологию»2.
Объяснительные модели, предлагаемые основными религиями, оказались достаточно эффективными, чтобы до сих пор удерживать в своем коммуникативном пространстве десятки и даже сотни миллионов людей во всем мире. Религиозные коммуникации могут взаимодействовать. Если этот симбиоз давний, то степень проникновения той или иной религии в традиционную культуру может быть весьма значительной. Некоторые традиционные культуры более терпимы и позволяют, как, например, японская традиционная культура, своим приверженцам посещать храмы разных религий, но обычно они все же четко замкнуты на определенную религию. Конфессиональные коммуникации могут даже вытеснять более ранние, но чаще все же происходит симбиоз: они проникают друг в друга и существенно переплетаются. Конфессия задает основную тему религиозным коммуникативным потокам – спасение, достижение слияния с богом и т.п. Таким образом, конфессиональные коммуникации играют важную терапевтическую роль, позволяя легче переносить трудности и невзгоды человеческой жизни.
Кроме того, конфессиональные коммуникации оказывают существенное, иногда определяющее влияние на картину мира человека, находящегося или находивше- гося под их воздействием. Язык религиозной коммуникации – язык социальной власти, стоящий над человеком, обусловливающий особенности мировосприятия и требующий от него подчинения канонам. Так, особенности православия, по мнению И.Г. Яковенко, наложили серьезный отпечаток на менталитет адептов этого направления в виде культурного кода традиционной отечественной культуры. В составе культурного кода, по его мнению, лежат 8 элементов: установка на синкре-зис или идеал синкрезиса, особый познавательный конструкт «должное»/«сущее», эсхатологический комплекс, манихейская интенция, мироотречная или гностическая установка, «раскол культурного сознания», сакральный статус власти, экстенсивная доминанта. «Все эти моменты не существуют изолированно, не рядоположены, но представлены в едином целом. Они поддерживают друг друга, переплетаются, взаимодополняют и поэтому так устойчивы»1.
Таким образом, традиционная культура в значительной степени представляет собой результат воздействия конфессиональных коммуникаций, выстраивается и транслируется с их помощью, и, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на конфессиональную сферу.
В настоящее время происходит разрушение традиционной культуры многих народов за счет вытеснения традиционных коммуникаций и замещение их профессионально выстроенными коммуникациями с помощью посредничества СМИ и СМК. Традиционные коммуникации способствовали достижению необходимой слитности коллектива и поддерживали необходимый для его выживания баланс идентичностей «Я» и «Мы».
С появлением государств начался процесс формирования Мы-идентичности другого уровня. Этот процесс хорошо передается известной фразой: «Если государству от нас что-то надо, оно предпочитает, чтобы мы считали его родиной». Государства сознательно формировали Мы-идентичность, используя все возможные средства – СМИ, религию, государственные праздники, но для этого необходимо было ослабить первичные коллективные идентичности – родовую, пле- менную или этническую. Следовательно, государство было кровно заинтересовано в том, чтобы развивать и совершенствовать средства коллективного воздействия на сознание людей. На этом этапе происходит профессионализация коммуникаторов и их отрыв от первичных коллективов. Оттачивалось мастерство и навыки оказания влияния на аудиторию. Такое воздействие все более и более демонстрировало свою манипулятивную сторону. По мнению В.П. Пугачева, «формирование у управляемых иллюзий свободного выбора с помощью прямого обмана, манипуляции и программирования психики имело место во все времена и среди всех народов. Однако в политике такое управление свободой осуществлялось преимущественно эпизодически по отношению к отдельным людям или сравнительно небольшим группам общества, было направлено в основном на формирование у подданных или граждан политической пассивности и апатии»2.
Обратим внимание, профессионалы коммуникации учились управлять массовым поведением в обществах, в которых господствовало социальное и имущественное неравенство. Для этого постепенно были выработаны приемы, влияющие на поведение масс. По желанию заказчика можно в определенный момент мобилизовать людей. Необходимо лишь с соответствующей интенсивностью вбрасывать определенного рода информацию, актуализирующую ту или иную идентичность. Можно вызвать усталость и апатию населения за счет имитации в коммуникативном пространстве активной деятельности. Если это продолжается достаточно долго и не сопровождается изменениями в реальном пространстве, то это ведет как раз к усталости, апатии и чувству невозможности что-либо изменить. Для того чтобы лучше понять это, достаточно посмотреть деятельность СМИ и телевидения любого государства за несколько дней до начала противостояния с другим государством или же начала боевых действий, когда известно, что это событие наступит.
В ситуации, когда СМИ становятся главным средством социализации, что происходит, например, в России, молодые люди не видят необходимости походить на своих родителей, тем более на бабушек и деду -шек. Связь поколений прерывается, и ста -новится возможным при помощи только информационно - коммуникационного влияния прививать молодежи те ценно сти, которые выгодны хозяевам телека -налов и владельцам СМИ. Современные технологии коммуникации, а информиро вание сейчас маскируется под коммуника-цию, позволяют вести информационные войны.
Традиционная культура в большин-стве стран еще жива, но это — культура уходящая. В условиях господства СМИ и СМК постепенно уходят навыки само -организации населения, растет степень индивидуализации людей. Представляя возможности ухода в виртуальную реаль ность, современные СМК ослабляют возможности самореализации в действи тельности. Кроме того, «степень влия-ния средств массовой коммуникации на аудиторию связано не только с тем, о чем говорится, но и с тем, о чем не говорится. Причем последнее оказывается более важ ным. То есть, не только поддерживается статус кво, но и не поднимаются важные вопросы социальной структуры общества. Итак, способствуя конформизму и мини мизируя возможности проявления крити ческих настроений в обществе, коммер ческие средства массовой коммуникации опосредованно, но эффективно препят ствуют развитию реального критического мировоззрения»1.
Современные коммуникативные тех нологии обладают большим потенциалом влияния, но сами по себе они нейтральны. Их можно использовать с разными целями, как во благо, так и во зло. Так, современ ные компьютерные технологии могут существенно расширять возможности получения образования или поиска друзей по интересам. С другой стороны, компью терное общение может служить препят ствием реальному общению, лишая людей таких навыков. Виртуальная идентичность является все же мнимой идентичностью, которая в реальной жизни в большинстве случаев никогда не сможет реализоваться. Жестко оценивать эту ситуацию, по мне -нию В.Н. Гасилина, с позиции этических категорий «хорошо» — «плохо», «благо» — «зло» все же, видимо, некорректно.
Современные коммуникативные тех нологии могут транслировать как мифы прошлого, так и мифы настоящего. С их помощью имеющие такие возможности люди могут внушить то, чего нет в реаль ности, могут подправить, подретуширо вать реальность. Таким образом идентич ность может быть сильно ослаблена или даже разрушена и впоследствии заме щена другой. С другой стороны, совре менные коммуникативные технологии могут использоваться в целях артикуля ции или даже укрепления традиционных идентичностей. Попытки вмешательства в традиционную культуру или попытки ее переделки представляются опасными. А.И. Пригожин пишет: «...этос — грунт. Глубже только гены... Все, что происходит сверху, питается или отправляется этим грунтом. Мы не изменим страну, пока не изменим ее этос. В нем первые причины проблем. Как этого можно не понимать?» И предлагает «идеологемы цивилизаци-онного уровня», «синергетическое лидер ство» и даже «международный аутсорсинг для внутренних задач»2 с целью изменить ситуацию в данном отношении.
Схожие идеи высказывает И.Г. Яко -венко, подчеркивая, что «пронизанность мира русского православия гностиче скими смыслами — свидетельство слабо -сти русской культуры»3.
Представляется, что переделка культур ного кода, менталитета является делом очень опасным. До сих пор во многих слу-чаях менталитет показывал свою эффек тивность. Вмешательство в то, что с тру дом может быть определено и механизм чего остается до настоящего момента неясным, связано со значительным риском. Намного перспективней видится использование лучших черт менталитета, лучших проявлений российского культур ного кода. Тем более что дальнейший ход событий мировой истории остается неиз вестным.